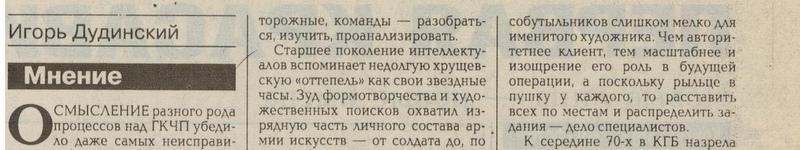Впервые напечатано в еженедельнике «Iностранец» №3(77) от 1 февраля 1995 года
Как-то в Париже я от нечего делать смотрел телевизор. Шел незамысловатый репортаж из Италии. Что-то о социальных противоречиях по наработанной схеме – сначала, как водится, бездомные и опустившиеся, «дно». Затем – «гегемон», работяги, ремесленники, мелкие предприниматели, дальше – «буржуи», миллионеры с их умопомрачительными капризами. Под занавес репортер предложил ввести телезрителей в те круги, приблизиться к которым, как он выразился, не помогут никакие деньги. Имелась в виду аристократия – к ней в Италии отношение трепетное и почтительное. И сразу же на экране замелькали кадры с Еленой.
Сальвадор Дали, впервые увидев графиню Щапову де Карли на одном из великосветских раутов, в изумлении воскликнул:
– Какой уникальный скелет!
Быть может, именно ценившиеся на вес золота среди московских нуворишей шестидесятых годов «габариты» (при росте 174 она весила всего 42) и стали отправной точкой в ее поистине звездной участи.
Ее имидж, а попутно и образ жизни, сложился рано (ей, пожалуй, не стукнуло и шестнадцати) – зато однажды и навсегда. С тех пор ни разу не изменила она выпавшему ей предназначению – служить эталоном, а зачастую и законодателем вкусов, взглядов и настроений пестрого интернационального общества, имя которому – светский интеллектуальный истэблишмент. Ангел-хранитель ни разу не подвел ее. Колесо фортуны не сбавляло оборотов. Линия судьбы неизменно пролегала в завидном далеке от превратностей и дурных глаз. Она провоцировала на любовь – и никому не принадлежала. Стимулировала на творчество – и не слишком афишировала собственный литературный дар. Сводила с ума – и ускользала от взаимности. Она способна возвысить и облагородить едва ли не всех, кто ее окружает. Внешностью (Елена потеряла счет победам на конкурсах фотомоделей), способностью выглядеть на миллион (даже в доперестроечной России она умудрялась добывать «шмотки» от ведущих европейских кутюрье), раскованно-утонченными манерами (невинное дитя неуловимо оборачивается бывалой соблазнительницей – и наоборот), пленительным и горделивым умом (до сих пор ее никто не превзошел в искусстве застольных пикировок – во всяком случае среди московских тусовщиков). В какой бы из столиц она ни появлялась, журналисты пытаются разгадать секрет ее неувядаемой популярности, не устают задавать один и тот же, в сущности, вопрос:
– Как вам удается жить не касаясь земли?
Если верить астрологам, то львиную долю ответа взял на себя ее гороскоп, пикантно дополнивший бесстрашие, азарт, безоглядную страсть к риску и удачливость Тигра обостренной интуицией и реализмом Рака (она родилась 22 июня). Еще – гены (дед – фабрикант, владелец того самого производства, что после национализации обозвали «Красным треугольником»). Конечно же, место рождения – центр Москвы, именитый дом на Фрунзенской – тот, где агентство Аэрофлота. Плюс – девочка из приличной семьи (отец – академик, ни в чем не отказывающий рано повзрослевшей дочери). И ко всему прочему – школьные пробы пера, дерзкие попытки писать «не такие как все» стихи («летательный аппарат молчал он чувствовал себя мужем галантно предложив сесть в середину своего тела и навсегда оторваться от этой земли полетел она хохотала и целовала его везде с истеричной нежностью пухлых губ»), что служило причиной перманентных скандалов с учителями, зато распахнуло двери в таинственную, но мало в те годы кому доступную либерально-андеграундную элиту. Ее первые шаги всерьез опекали те, кто сегодня стали лауреатами бесчисленных литературных и прочих премий. За притягательно-вожделенного Козлика (Леночку Козлову) боролись многие из достойнейших, но она предпочла самого пробивного и преуспевающего Виктора Щапова – полуфарцовщика, полуграфика, специализировавшегося на агитационно-пропагандистских плакатах первостепенного идеологического значения. Он поселил ее на Малой Грузинской, 28, в апартаментах между Марианной Вертинской и Владимиром Высоцким, и пока она спала, обставлял квартиру свежими цветами. Просыпаясь, она безмятежно улыбалась и интересовалась:
– Я на кладбище или в джунглях?
Их будоражившему Москву союзу, казалось, суждено длиться вечно. Ничто не предвещало конфликта. Все желания Леночки Щаповой удовлетворялись в момент их возникновения, а любые проказы и шалости прощались ей заранее и автоматически. Так бы и продолжалось, если бы…
Если бы не нагрянул в столицу смекалистый провинциал Эдуард Савенко. Отрастив кудри до плеч (этакий симбиоз Есенина и Махно) и прикинувшись непризнанным поэтом, которому не дают развернуться во всю ширь ортодоксы из глубинки, он начал методично обивать пороги маститых и даровитых. Его «система» была основана на вечно нереализованном комплексе покровительства, так свойственном «властителям дум». Шитье брюк местным стилягам избавляло его от забот о хлебе насущном. Вскоре его стали часто встречать в ЦДЛ за обедом или ужином очередного влиятельного лица. Завязывались нешуточные связи. Его претенциозный псевдоним (Лимонов), скрывавший его неказистую фамилию, все чаще звучал из уст завсегдатаев артистических салонов и творческих клубов.
Однако для полного джентльменского набора каждому желающему выглядеть респектабельно необходима «девушка для представительства» – и желательно не простая длинноногая «герла» из первых попавшихся, а золотая женщина-легенда, за плечами которой – шлейф интриг, сплетен и роковых страстей. И хотя Эдичка был нищ и без прописки, но недаром же из Харькова.
Дождаться подходящего момента и подобрать ключи к общительной и доверчивой Леночке Щаповой удалось без особых хлопот – нравы в богеме, как известно, демократичны. Но вот закрепить успех, эксклюзивно застолбить за собой первую красавицу Москвы, сделать ее своей влюбленно-обожающей тенью, поклонницей таланта, вырвать из комфортного и обеспеченного быта, убедив скитаться по чердакам и подвалам, довольствуясь доходами от мелкого портняжного бизнеса, представлялось проблематичным. Впрочем, Эдичка отлично знал и про папу-академика, и про квартиру на Фрунзенской.
Все же следует отдать Лимонову должное – его пробивная сила оказалась на высоте. После третьего или четвертого кровавого в буквальном смысле слова (Эдичка резал вены и обрызгивал кровью площадку перед ее дверью) штурма сердце Елены дрогнуло – и она собрала чемоданы, перешагнув порог, отделявший презренный мещанский уют от романтической неустроенности райского шалаша.
Москва гудела. Наконец-то разразился Скандал, и появилась Тема Для Разговоров. «Сладкая парочка», Эдичка и Леночка, убила разом двух зайцев. Он доказал всем, что присутствует среди избранных на законном основании. Она лишний раз подтвердила свою экстравагантно-непредсказуемую репутацию. И – пошло-поехало. Приемы, интервью, публикации в западной прессе («королева московских гостиных изменяет респектабельному мужу с поэтом-нонконформистом»), настежь распахнутые двери посольств, приглашения за рубеж, которыми они не замедлили воспользоваться. Лимонов соглашался не меньше чем на всемирную известность.
Нью-Йорк мгновенно расставил все по местам, определив каждому отведенное ему место. Общество наживы и чистогана благосклонно приняло и оценило «уникальный скелет», но категорически отвергло амбиции нахрапистого харьковчанина, почему-то считая их абсолютно необоснованными. В конце концов один из них, покинутый и безработный, сублимировал тоску в ставшую классической исповедь «Это я, Эдичка», а другая, воздушная, эфемерная и все такая же решительная и бесшабашная в принятии судьбоносных решений, поселилась в американском представительстве итальянского бизнесмена и аристократа – графа Жана Франко де Карли. В Москве поступок Елены отозвался ставшей крылатой фразой, произносимой с ехидным потиранием рук:
– Козлик-то убежал.
В сущности, случилось то, чего все ждали. Помню фотографии, доходившие «оттуда» в семидесятые – начале восьмидесятых. Все «наши» вместе, за одним столом – в Париже, Нью-Йорке, Иерусалиме. Поддатые, улыбающиеся, полные надежд на спасительную силу искусства (в те годы «отваливала» преимущественно творческая интеллигенция). Общие невзгоды и трудности адаптации вынуждали держаться друг за друга. Сыграла роль и инерция беззаботного московского общения, принадлежности к клану, и необходимость сплотиться для противостояния старым, еще «тем» эмигрантам, встретившим незапланированных конкурентов более чем настороженно.
Вскоре вести «из-за бугра» стали приходить реже. Их тональность постепенно менялась. То и дело доносились слухи, что такие-то насмерть разругались и расплевались, что среди вчерашних собутыльников начались склоки, разборки, а все Козлики разбегаются кто куда. И хотя за минувшие 15-20 лет многие худо-бедно успели превратиться в почти что «стопроцентных иностранцев», от прежних симпатий и идеалов не осталось и следа. Сегодня каждый из них существует сам по себе, найдя, что искал, получив, что хотел. Если общаются, то с пользой – с теми, от кого хоть что-то да зависит, то есть с французами, американцами. Наезжая в Москву поодиночке, гордятся личными успехами и уверяют, что старые знакомые все куда-то подевались и о них давно ничего не слышно. Эмигрантская пресса, некогда объединявшая, тоже как-то незаметно переместилась в Россию и, растворившись в океане похожих друг на друга изданий, утратила былое значение. Да и мы изменились, устали, постарели. Воспоминания о друзьях нашей боевой юности уже не волнуют нас так, как прежде.
Сорокалетний граф де Карли обладал живым темпераментом, благородным, отзывчивым сердцем и завидным чувством юмора. В общественном мнении он считался слегка не от мира сего. Газеты отозвались на его кончину (в 1992 году) некрологом, где подчеркивалось, что графу «стоило немалых усилий приспосабливаться к прагматичным критериям XX века». До знакомства с Еленой единственной его привязанностью был роскошный сеттер с русским именем Василий и родословной не короче, чем у его владельца. Пес и хозяин практически не расставались.
– Оh, my God! – укоризненно вскрикивали холеные дамы, когда Васитий у них на глазах справлял нужду пряItмо на вылизанные тротуары богатых кварталов.
– It’s not your God – it’s my dog! – парировал невозмутимый граф.
Жана Франко де Карли многие вспоминают добрым словом. Кое-кто обязан его щедрости и покровительству по гроб жизни.
Основатель вивризма Толстый по прибытии в Европу вздумал осчастливить очередным «визуансом» Вечный Город. Темпераментные римляне живо, но по-разному реагировали, когда среди бела дня из-за скульптур фонтана Треви неожиданно выбежал совершенно обнаженный и что-то истошно вопящий здоровенный детина, удивительно схожий по габаритам с центральной фигурой композиции – Нептуном-Океаном. Когда оправившиеся от изумления зрители наконец-то расслышали, к чему так настойчиво и страстно призывает их новоявленный Мессия, карабинеры уже надевали на него наручники. Толстый с честью довел представление до конца, успев прокричать на семи европейских языках фразу:
– Итальянцы! Берегите папу! – после чего с гордо поднятой головой в сопровождении почетного эскорта под завывание полицейских сирен отбыл в городскую тюрьму.
Дело, однако, вопреки упованию Толстого на то, что искусство неподсудно, принимало печальный оборот. Закон оказался одинаково суровым и для хулигана, и для художника, которому «шили» и оскорбление общественной нравственности, и порчу памятника культуры, и хулу на святую церковь.. В общей сложности тянуло на пару-тройку лет.
Супруга Толстого, Людмила, подняв на ноги всех знакомых, в последней надежде позвонила Лене Щаповой в Нью-Йорк, чтобы та попросила графа хоть чем-то помочь. Безотказный де Карли в тот же час вылетел в Рим, где до суда и при подписке о невыезде взял Толстого на поруки, поселив на одной из своих вилл.
Ровно на седьмой день после сцены у фонтана папа получил три пулевых ранения от затерявшегося в ликующей толпе террориста.
Через три дня после покушения граф позвонил в госпиталь и попросил папу об аудиенции. Благодаря месту в аристократической иерархии, которое занимала фамилия де Карли, ждать пришлось недолго. Выслушав рассказ о божественном предупреждении, папа распорядился разобраться, и спустя месяц римская курия на специальном заседании вынесла решение обратиться в прокуратуру с ходатайством о снисхождении к несчастному, который в своем поступке, быть может, руководствовался внушением свыше. Само собой, все обвинения с Толстого сняли.
Дважды в последнюю минуту перед регистрацией брака сбегала Елена из мэрии. На третий раз без памяти влюбленный граф предложил выстраданный, мучительно противоречащий его принципам компромисс – официальный контракт, где одним из пунктов стояло условие немедленного развода по первому требованию супруги (секрет в том, что по неписаным законам своего круга граф, к тому же ревностный католик, не имел права на расторжение брачных уз, да и сама юридическая процедура развода, как мы знаем, в Италии может растянуться на годы). В качестве одного из свидетелей подпись поставила сама княгиня Марина Волконская.
После свадьбы, на которой лакеи подходили к приглашенным со специальной чашей, куда те, чтобы не обременять себя лишней тяжестью, складывали бриллиантовые украшения, дела вынудили графа вылететь на родину, а графиня, вступив во владение солидным состоянием, включающим несколько живописно расположенных имений, решила немного отдохнуть и развеяться на Карибских островах. Благо незадолго до бракосочетания она случайно встретила свою давнюю московскую пассию – известного кумира шестидесятых Льва Збарского, прославившегося тем, что он в свое время придумал макет «Литературной газеты», на которую молилось целое поколение отечественных либералов, и все, кто так или иначе оказывались причастными к редакционной кухне популярного органа, вызывали благоговение широких слоев интеллигенции.
Чтобы не скучать, Елена прихватила Лёву с собой, о чем всерьез пожалела. Тот закатывал истерики похлеще эдичкиных да еще имел дурацкую привычку во избежание ее контактов с мужчинами запирать графиню в номере.
Когда вернулись в Нью-Йорк, от левиного деспотизма и вовсе житья не стало. Проще говоря, он ее смертельно «достал», преследуя повсюду и постоянно. Оставался побег – и желательно как можно дальше. В один прекрасный день она взяла на руки любимого персидского кота и сказала Збарскому, что отправляется на съемки (Елена и в Нью-Йорке не прерывала прежнего занятия – позировала для рекламы).
– А кот зачем? – насторожился заподозривший неладное Лёва, но Елена успокоила его, что пушистое животное предусмотрено режиссерским замыслом. И – рванула в аэропорт, где села в первый же самолет на Рим.
Ошеломленный нежданным сюрпризом в виде нагрянувшей налегке супруги, растроганный граф отправился с ней в кругосветное путешествие. Пирамиды, пагоды, юрты, сафари, коррида, ритуальные танцы дикарей, кенгуру, баобабы, анаконды, безмолвие Гималаев и гомон птичьих базаров смешались в стремительном калейдоскопе звуков, красок, зрелищ. Пресыщенную впечатлениями Елену потянуло в «родной» Нью-Йорк, где ее ждали менее экзотические, а потому более привычные развлечения, друзья, романтические приключения и прежняя, еще «дографская» квартира, хранившая кое-что, связывающее ее с безвозвратно утерянным прошлым. Граф же по необходимости вернулся в Рим.
Увы, за время ее отсутствия жилище подчистую обчистили. Кто-то от души похозяйничал. Дверь взломана. Вынесли буквально все. Особенно стало жалко бабушкину Библию с дарственной надписью Патриарха всея Руси. Поплакав среди пустых стен, Елена с горя напилась и… бросилась разыскивать Эдичку. Быть может, встреча с ним как-то поможет смягчить горечь утраты, напомнит о былых загулах, об оставшихся позади чудачествах.
Вкусивший первый литературный успех Эдуард Лимонов обосновался что надо, катался как сыр в масле. Подвернулся добрый дядя из «богатеньких Буратино», который бывал в Нью-Йорке наездами, но владел в нем кое-какой недвижимостью. Кто-то его убедил, что он просто обязан поддержать бездомного гения, недавно сбежавшего от коммунистов, и тот под солидное поручительство нанял Эдичку кем-то вроде сторожа, предоставив в его распоряжение трехэтажный шикарно обставленный особняк, позволивший ему с головой отдаться сочинительству.
Они как будто и не расставались, хотя пылкости и нежности изрядно поубавилось. Сказывалась разница в положении – кто она, а кто он. Распорядок установился почти московский. Просыпались к обеду. Время до ужина пролетало стремительно. Где-то бывали, кого-то принимали «у себя». К ночи их дороги расходились – дистанцию предусмотрительно установила графиня, способная хранить верность только идее личной свободы. Она растворялась среди огней большого и неумолкающего города. Он – возвращался в глухую пустоту комнат и усаживался за литературные опыты.
Между тем графский титул и связанные с ним условности требовали хотя бы периодического присутствия ее рядом с мужем (постепенно Елена вошла во вкус своего положения и уже не могла представить себя в ином качестве). И она бросила Эдичку. Теперь уже навсегда – слишком полярно разошлись их интересы. Она незаметно втянулась в необременительную круговерть римских каникул, а он перебрался в Париж, куда его пригласил долгожданный издатель. Она опубликовала скандально-эпатажную книгу «Это я, Елена» с эротическими фотографиями, после чего ее пригласили вести еженедельную колонку «Рассказы о римской аристократии» в популярной газете «Веселый римлянин», чем она с блеском занимается и по сей день, заслужив репутацию «сердитого и язвительного журналиста». Он, заботясь о своем эпистолярном наследии, стал забрасывать ее длинными, обстоятельными посланиями. Она отвечала редко, но подробно, и однажды, стараясь побольнее ущипнуть, как бы невзначай проболталась о совершенно секретном романе с одной из высокопоставленных особ.
Будь предмет ее очередного мимолетного увлечения не столь именит, Эдичка бы поморщился, но пилюлю проглотил – как бы горька она ни была. Но на сей раз он не на шутку разозлился. Впервые за всю историю их шумных отношений его соперником оказался недосягаемый обитатель международного политического Олимпа. И Эдичка, постоянно терзаемый мыслью о том, что на свете существуют люди, занимающие более высокие этажи, обуреваемый завистью и ненавистью к сильным мира сего (не отсюда ли его нынешний «национал-большевизм»), решил отомстить за оскорбленное самолюбие.
В ту же ночь он по водосточной трубе забрался в окно ее парижской квартиры на Елисейских Полях, перебил мебель, зеркала и спустил в унитаз бриллиантовое колье. На следующее утро он сделал предложение девушке-эмигрантке, которая мыла посуду в ресторане и мечтала познакомиться с какой-нибудь творческой личностью.
От страха что опять тебя не встречу
Я начинаю говорить он умер
и колдовство в тринадцать песен
бледный слон
убитая улыбка ящика стола
там клятвы спят
там спят твои слова
еще какой-то маленький как птенчик
мой подвенечный венчик
и две церковные свечи
ты скажешь виновата и молчи
я с женщиной простой намерен жить
что ж до тебя то можем мы дружить
я тихо плачу в платье затаясь
я умираю тихо не боясь
я начинаю говорить он умер
и колдовство в тринадцать
белый слон мне паспорт выдает
в прощальный сон
кивает головой и мы летим туда
где только ты и я
где только ты и я
О том, что Елена в Москве, я узнал из объявления в ЦДЛ о ее пресс-конференции. Вечером раздался звонок. Она сказала, что собирается завтра на Птичий рынок – давно мечтает привезти из России котенка. Я предложил там и встретиться.
Мы не виделись лет двадцать, а то и больше. Она совсем не изменилась. Тот же «уникальный скелет», те же пленительные жесты, та же утонченность интонаций.
Побродив по торговым рядам и основательно промерзнув, решили, что пора согреться. Забегаловок поблизости не оказалось, зато неподалеку находилась мастерская знакомой художницы. К ней и постучались. К счастью, застали. Я сбегал за коньяком, и мы отвели душу в воспоминаниях.
– Так как же все-таки тебе удается жить, не касаясь земли?
Она лукаво и многозначительно рассмеялась. Серо-голубой комочек облизывал ее тонкие пальцы.
– Лучше напиши, что графиня продала в Москве шубу и купила кошку.
– Ты участвуешь в экологическом движении?
– Нет, просто племянница выпросила, я ей и продала. Считай, что подарила.
– Тогда позвольте, графиня, такой банально-официальный вопрос, для прессы. Каково твое… общественное лицо, что ли?
– Я – аристократка. В Италии это профессия. Как в Англии королева. Примерно те же обязанности. В основном представительские. Еще журналист, писатель. Приехала, чтобы подписать договор с московским издательством на русскоязычный вариант романа «Ничего кроме хорошего». Скоро выйдет – прочтешь.
– Слышали, что твой муж умер, и ты – единственная наследница.
– Почему единственная? У нас дочка, Анастасия, ей пять лет. Ее крестил сам папа, в соборе Святого Петра. Съехалась вся римская знать. Крестным отцом был принц Колонна – старейшина итальянской аристократии. Мы с мужем пришли на крестины с нашим сеттером Василием. В церковь с животными не пускают, но папа махнул рукой и разрешил. И мы впервые в истории Ватикана ходили вокруг алтаря с собакой.
– Как тебе у нас?
– Я еще на улицу не выходила. Сегодня – впервые. Гостиница, казино, журналисты (я ведь вечный ньюсмейкер, постоянный персонаж светской хроники), снова казино. В основном – играла. В «Рояле» на Беговой, в «Савое», «Метелице» – правда, там то и дело фишки со стола воровали. Наверное, чтобы не забывала, что я в России.

Фотографии Анатолия Мелихова. Вверху – на Птичьем рынке с только что купленным котенком. Внизу – мы с Еленой читаем только что вышедший материал.