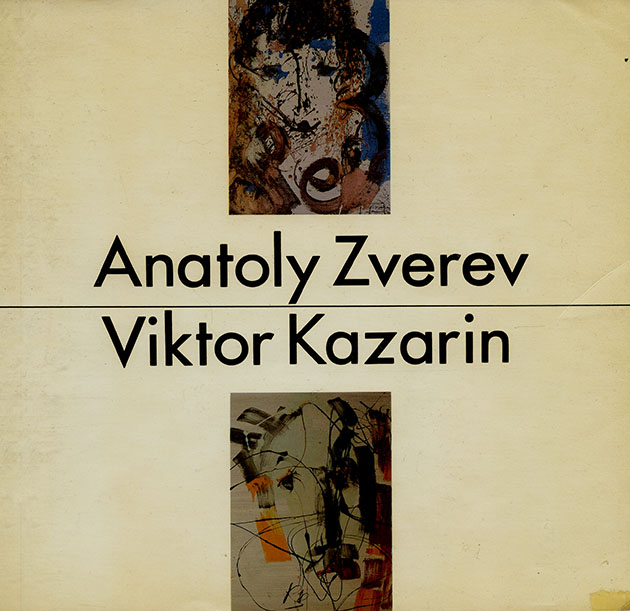Оба текста впервые напечатаны в каталоге выставки Анатолий Зверев – Виктор Казарин (1990 год). К сожалению, весь тираж Казарин сжег в припадке истерики. Единственный сигнальный экземпляр чудом сохранился у издателя.
Три открытия художника Анатолия Зверева
Искусство должно быть свободным. Анатолий Зверев
Его открывали трижды. Впервые – для узкого круга московских эстетов. Во второй раз – для западных экспертов, владельцев галерей, маршанов. В третий – уже после смерти художника – для всех.
Его творческая биография началась где-то на рубеже сороковых и пятидесятых, в московских Сокольниках. Известный тогдашний меценат, поклонник изящного, танцор таировского Камерного театра Александр Румнев как-то весной, прогуливаясь по парку, обратил внимание на рабочих, которые благоустраивали площадку – подправляли песочницы, грибки, скамейки. Когда приколотили фанерные щиты ограды, к ним присоединился бледный худощавый юноша в овчинном тулупе, слишком большом для него, и в разных сапогах – хромовом и кирзовом. По его одухотворенному лицу, чистому, отстраненному взгляду было заметно, что он слегка не от мира сего, погружен в свои, далекие от суетных интересов проблемы. Он нес ведра – с белилами и киноварью – и обычный кухонный веник. Подойдя к щиту, он энергично окунул веник сначала в одно ведро, потом в другое и с небрежным артистизмом стал водить им по фанере. Через несколько минут все вокруг полыхало, лучилось, слепило. На площадке не осталось ни одного незаписанного пространства. Из каких-то неведомых мест прилетели причудливые, похожие на петухов птицы, поражавшие непривычной для тех строгих и голодных послевоенных лет дерзостью палитры.
Восхищенный открытием, Румнев попросил юношу рассказать о себе. История оказалась нехитрой. Отец, тамбовский землепашец, в гражданскую войну оказался втянутым в драматический водоворот событий. Призвав в Красную армию, его вместе с другими новобранцами из местных крестьян бросили против возглавлявшего антибольшевистское восстание атамана Антонова. В смертельных, братоубийственных боях был ранен. Попал в плен. Бежал. Лишения обернулись болезнью глаз. Почти пропало зрение. Требовалась операция. Всей семьей, с двумя дочерьми перебрались в столицу, обосновались в Сокольниках. Отец, подлечившись, устроился дворником. Мать, до революции писавшая в артели иконы, мыла посуду в столовой. Здесь, неподалеку от парка и родился будущий художник.
Отечественная война застала в подмосковном пионерском лагере. Десятилетний мальчик шел пешком в город, захватив самое дорогое – свою первую, как он считал, «настоящую» картину. Вообще пишет он быстро и много, но только когда есть краски. Правда, деньги на них несложно раздобыть здесь же, в парке – обыграв кого-нибудь в шашки (в них с особым блеском воплотилась его неуемная фантазия, он никогда не проигрывал, виртуозно расправляясь с любым маститым соперником). Систематического художественного образования нет – не считая ПТУ, где готовили маляров. Устроился парковым оформителем. Не пойти ли посмотреть работы?
Восторженный Румнев привозил в парк любоваться красными петухами друзей, ввел талантливого юношу в круг столичных знаменитостей, покупал краски, кормил, помогал пристраивать картины. Художник благодарил за тепло и ласку, но жить на одном месте не мог. Его постоянно куда-то тянуло, он надолго исчезал, где-то бродяжил. Появляясь, кидался истово, жадно, неуемно писать, рождая за сеанс десятки работ. Вскоре его призвали на военную службу, во флот.
Году в восьмидесятом по какому-то зарубежному заказу он написал несколько страниц автобиографии. Ее стиль –нарочито, «а ля Распутин», корявый – позволяет проникнуть в тайну Анатолия Зверева, проследить, что за игру он вел с властями, судьбой и современниками, каким хотел казаться в их глазах, как умело превращал в достоинства собственные недостатки.
Год моего рождения – 1931. День рождения – 3 ноября. Отец – инвалид гражданской войны. Мать – рабочая. Сестер я почти не знал. Помню (кажется, из умерших) лишь двух — Зину (первую) и Верочку. Две сестры, кажется, живы по сей день. Одна из них — старше меня на четыре года. Другая — младше на столько же. Образование мое зиждилось на том, что мне было более всего присуще или приемлемо для меня. Другими словами, что легче всего давалось, ибо рос я болезненным и слабым.
Учился очень неровно и имел оценки всякие. По отдельным предметам или «отлично», или контрастное «два».
Мне удалось каким-то образом окончить семилетку и получить неполное среднее образование, чем я гордился перед окружающими приятелями.
Детство в основном проходило дико, сумбурно. Желаний никаких не было.
Художником я не мечтал быть, но часто хотелось, чтобы троюродный брат каждый раз, когда ему удавалось появиться у нас, рисовал мне всегда коня.
У нас в комнате висел на стене лубок – картина, на которую я засматривался и даже пытался по-своему сделать копию, то есть как бы нарисовать то же самое. У меня были цветные карандаши и шашки, в которые я всегда мечтал научиться играть.
Часто просил рисовать мне что-нибудь и отца, на что тот охотно соглашался, хотя, по всей вероятности, рисование ему не удавалось, несмотря на лиричность личности, и лишь из желания угодить мне ему удавалось нарисовать всегда одно и то же – голову какого-то мифического старика в профиль.
Тем не менее рисование у меня удавалось – и впоследствии так или иначе прижилось. Сначала, на пятом году «жисти» – портрет Сталина. Затем в пионерском лагере создал (не стесняясь могу сказать) шедевр своего искусства на удивление руководителя кружка (не кружки!) – «Чайная роза, или Шиповник». Когда мне было пять лет, изобразил «Уличное движение» – по памяти, в избирательном участке, где до войны детям за столиками выдавались цветные карандаши и листы бумаги для рисования. Тогда в Москве было мало людей – не то что нынче. И на выборы тогда шли родители с детьми под гармошку и под песни с плясками по улице, как на праздник – голосовать.
Что касается дальнейшего рисования – началась Отечественная или, как ее еще называют, Великая война, когда всех стали эвакуировать – кого куда. Я с двумя сестрами, отцом и матерью оказался в Тамбовской области. Конечно же, рисования никакого не было да, наверное, и не могло быть – суета сует и всяческая суета.
Затем я заболел куриной слепотой, а потом засорил глаза известью и мелом с потолка избы. Это тоже было моим несчастьем.
«Деревня» мне нравилась и не нравилась одновременно. Что-то нравилось, что-то – нет.
Что касается «живописности» родного края, то, конечно, изумление – луга, разлив, весенний гул с полей бегущих с грохотом и шумом тающих снегов, ревущих рано по утру подобно волнам. И все остальное – что лето, что зима с заносами, сугробы до проводов от телеграфных столбов, когда через сени изб еле вылезали люди, чтобы разгрести снег у труб, у выхода, у окон. Летом – и жара, и зной, и грозы страшные. Река и речки, озера. И все остальное прочее.
В Москве, когда мы прибыли по окончании войны, люди жили еще по карточкам, на пайке, в нужде.
Рисование продолжалось. Например, рисование из газеты «Советский спорт» – «Острые моменты у ворот московского Спартака». В моем альбомчике появились рисунки черной тушью пером, исполненные впервые после длительного перерыва во время войны.
Затем – рисование, живопись, лепка, занятия гравюрой по линолеуму, выжигание по дереву в двух парках – «Сокольники» и «Измайлово», в их детских городках. Затем – в двух Домах пионеров.
Потом учился и закончил Художественное ремесленное училище (два года), мимолетно, понемногу посещая кое-какие студии для взрослых, и даже мог бы подзастрять в одном из училищ, которое находилось на Сретенке. Но в этом училище я пробыл очень мало. С первого курса был уволен из-за внешнего вида. Мое плохое материальное положение решило исход моего там пребывания.
Затем работал художником в парке «Сокольники», работать приходилось маляром.
Всюду мне не везло, но рисование и живопись остались неизменным занятием по сей день.
В дни Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года, положившего начало хрущевской «оттепели», в парке Горького работала живописная мастерская, где московские художники впервые могли видеть, как творят их западные коллеги. Один из американских корреспондентов, писавших о фестивале, оставил любопытное свидетельство.
Наши рассчитывали ошеломить русских потоком «агрессивных» абстракций. Сняли пенки с самых авангардных течений и всей этой эклектикой надеялись нокаутировать социалистический реализм. Живописный конвейер вертелся без перерыва. Не успев прикончить один холст, хватали следующий. Русские растерялись. Такие темпы оказались для них неожиданностью. Воспитанникам академистов ничего не оставалось, как доказывать правоту словами. Спорили энергично. Нас обвиняли в уходе от социальных проблем. Мы возражали: сначала научитесь свободно обращаться с материалом! Это продолжалось до тех пор, пока в студии не появился странноватый парень с двумя ведрами краски, которые он позаимствовал у зазевавшихся маляров, и с намотанной на палку тряпкой для мытья пола. Раскатав холст насколько позволяло помещение, он выплеснул на него оба ведра, вскочил в середину сине-зеленой лужи и отчаянно заработал шваброй. Всё не заняло и десяти секунд. Мы замерли от восхищения. У наших ног распростерся огромный женский портрет, исполненный виртуозно, изысканно, с тонким пониманием. Парень подмигнул кому-то из остолбеневших американцев, хлопнул его перепачканной ладонью ниже спины и сказал:
«Хватит живописью заниматься. Пойдем рисовать научу».
Обладатель безукоризненной техники вовсе не был столь наивен, как казался на первый взгляд. Он быстро раскусил, что наши, в сущности, валяли дурака перед «русскими медведями», и мастерски сбил с них спесь.
Вдохновение накатывало на него внезапно, не оставляя времени на осмысливание, чем, как и что писать. К чему кисти, когда быстрее и удобнее сжать в кулаке несколько тюбиков (пусть это масло, гуашь и акварель вместе), разом выдавить их содержимое на холст, бумагу, а то прямо на покрывающую стол клеенку и мгновенно, с помощью того, что есть под рукой – зубной щетки, ножа, ложки, бритвенного помазка – или просто пальцами превратить случайный хаос красок в гармонию живописи – яркой, глубокой, насыщенной. И тогда… Вспыхнет стремительно разлетающимся фейерверком незатейливый подмосковный букет. Сквозь размытость, расплывчатость цветовых пятен проступят очертания до боли русских пейзажей. Оживут прекрасные лица друзей, знакомых, возлюбленных. Очаровательно загрустят добрые глаза бесчисленных собак, лошадей, птиц.
Устроитель его первой персональной (конечно же, зарубежной) выставки (Париж, 1958) известный французский пианист и дирижер Игорь Маркевич, которому удалось «нелегально» вывезти около сотни холстов, представлял его французской аудитории:
Джазовые ритмы его полотен завораживают. В них дух открытий шестидесятых, культура раскрепощенного поиска, тонкая и точная соразмерность традиционного и новаторского. Он посредник между Кандинским и Фонвизиным и несмотря на использование расхожих приемов потрясающе уникален. Он фанатично предан идее моментализма, полагая, что только наращивание скорости письма помогает схватить мир таким, каков он есть. Чем дальше всматриваться в окружающее, тем сильнее оно искажается, убежден он.
Это истинно русский тип. Толстовский Каратаев и горьковский Лука одновременно. Мягкость и простодушие уживаются в нем с хитростью, иронией, а зачастую откровенным позерством, юродивостью. Я, например, не уверен, так ли уж было необходимо завершать гроздь сирени остатками вчерашнего творога.
Как-то, желая сделать ему приятное, я сказал, что французы находят его работы прекрасными. Он невозмутимо ответил: «Что ж, им представилась очередная возможность узнать, что такое прекрасное».
Стараниями зарубежных меценатов состоялось второе открытие художника Анатолия Зверева. С конца пятидесятых его выставки проходят ежегодно – как правило, в известных галереях США и Европы. На родине же всё складывалось не лучшим образом. Те, на кого стараниями догматиков и монополистов от искусства навешивались политические ярлыки представителей «неофициальной» культуры (Зверев, конечно же, оказался в их числе), автоматически попадали в неслышно вращающиеся жернова изобретенной для устранения талантливых конкурентов системы существующего несуществующего. Художники творили, дарили миру открытия, созданное ими становилось явлениями, вызывающими пристальный интерес широких кругов знатоков, специалистов, ценителей. В то же время всего этого как бы не существовало. Ни выставок, ни рецензий, ни отзывов, ни публикаций. В беличье колесо застоя попадали целые художественные течения, направления.
Нет худа без добра. Молва и мода на гонимых «диссидентов» делали свое дело. «Непризнанный» Анатолий Зверев становится «придворным» живописцем многих работающих в Москве дипломатов. Его приглашают в посольства, заказывают семейные портреты. Круг клиентов стремительно расширяется. Увезти из Москвы себя, «увековеченного» «самим Зверевым», считается престижным (а главное, не слишком дорогим) удовольствием.
Ему нравились эти «заказные» сеансы. Каждый он превращал в маленький спектакль. Церемонно расслабившись, не спеша разглядывал приготовленное заказчиком – натянутый на подрамник холст, кисти. При себе никогда такой роскоши не имел. Шутил, балагурил. Наконец усаживался, бросал беглый взгляд на модель и… несколькими элегантными, доведенными до автоматизма движениями завершал портрет. Затем начиналось главное. Насмешливо-изучающе оглядев присутствующих, произносил свое коронное: «Улыбочка!» – добавлял какой-нибудь на первый взгляд случайный, но на самом деле решающий и завершающий штрих и старательно, с подчеркнутым удовольствием выводил размашистое АЗ – инициалы, которые часто становились важным элементом композиции. Он мог превратить их и в обрамляющую лицо прическу, и в лошадиную голову, и в птичий клюв. Гонорар «из принципа» брал мизерный, чтоб было на что погулять, угостить друзей. Крупных сумм панически боялся.
Отечественные искусствоведы заинтересовались им лишь три года спустя после его ухода из жизни – в связи с его первой посмертной выставкой, собранной в начале 1989 года Советским фондом культуры из того, что удалось буквально вырвать у недоверчивых и искушенных московских коллекционеров.
Он напоминал Велимира Хлебникова. Непрактичностью. Неприкаянностью. Образом жизни. Везением на опекунов, покровителей. Как он в них нуждался! Социально не защищенный, никогда не имевший при себе никаких документов, даже обязательного паспорта, он нередко становился лакомой добычей ищущих легкой удачи первых встречных милиционеров. К счастью, после кончины Румнева заботу о нем тут же взял на себя известный коллекционер современного русского живописного авангарда Георгий Дионисьевич Костаки, развесивший его холсты среди Лентулова и Шагала.
Выручило и вступление в 1975 году в созданную властями специально для «трудоустройства» начинавших громко заявлять о себе авангардистов-нонконформистов живописную секцию Московского комитета графиков, объединившую два-три десятка художников, среди которых оказался и Анатолий Зверев. Теперь стало куда посылать штрафы из вытрезвителей. Руководство секции, неизменно оплачивая счета, дружески поддерживало – морально, материально.
Солнцем его судьбы стала дружба с Ксенией Михайловной Асеевой – вдовой известного поэта-лефовца. Оба по мере сил скрашивали одиночество друг друга. Добрейшая, слегка экзальтированная женщина, в прошлом героиня пронзительных асеевских строчек, повидавшая на своем веку немало ярчайших знаменитостей и пережившая тьму романов, ближайший, интимнейший друг Маяковского, Бриков, стала глубоким почитателем и страстным пропагандистом его искусства. Она была буквально пленена, заворожена, стойко вынося любые чудачества и сумасбродства не знавшего меры гения. Что ж, ей довелось вторично пережить то, чем она дышала в бурные двадцатые. История и молодость повторились для нее дважды. Ему же суждено было проводить Оксану Михайловну в последний путь. Память о трогательной нежности их отношений наполнила теплом оставшиеся годы художника.
Его друг, работающий в Париже художник Валентин Воробьев вспоминает:
В 1957 году, от которого идет «исторический отсчет» нового русского искусства, Анатолий Зверев в свои 26 уже был легендарен и знаменит без казенной рекламы. В 1951 году он поставил крест на академическом ученьи, изобразив натюрморт на оборотной стороне холста с портретом Сталина. Года через три за сына московского дворника передрались слабосильный и чувствительный профессор танцев Румнев и могучий капиталами грек Костаки. Сам Зверев взял в обработку того и другого. Потом явился эстет Андрей Волконский и устроил ему первую в Москве «квартирную» выставку, о которых у нас тогда не слыхали.
В эпоху буйного цветения «самогонно-артистических» салонов знаменитый Зверев стал их завсегдатаем. Его звали как свадебного генерала. Он прошел все подвалы «свободных художников», ночуя под столами и роялями. Навещая придурков подполья, честолюбцев и неудачников искусства, он был вхож и на макушку общества, где закуска сервировалась в хрустале и серебре с царского стола.
Зверева я обнаружил году в 60-м, в курилке Музея изящных искусств имени Пушкина, и у меня задрожали коленки. Рядом – гений! Человек с дорогой сигарой во рту пускал дым кольцами и рисовал, собирая вокруг толпу зрителей. В том же году благодаря храбрости американца Александра Маршака, написавшего в «Лайфе» статью «Искусство России, которого никто не видит» с большим цветным разворотом, весь мир узнал о существовании московского живописца Анатолия Зверева.
Его разрывали на части. Зверев умел работать напоказ, по заказу, на людях и за символическую получку в сто рублей, хорошо всю жизнь его кормившую. Это были не салонные портретики «а ля Монмартр», а взрыв дьявольского темперамента в один присест, работа-спектакль в парке, на стадионе, в кухне дворника, в квартире дипломата, на дачной веранде. Обладая совершенно нечеловеческой силой воли и гибельным гипнозом, он заставлял знаменитого дирижера Игоря Маркевича бегать за коньяком и перемывать и без того чистые стаканы. На моих глазах всемирно известный музыкант Валентин Варшавский стоял за спиной Зверева с подносом водки в то время как художник, огрызаясь и стряхивая с себя чертей, рисовал его дочку и жену. Профессор Пинский, знавший наизусть Шекспира в подлиннике, робко прислушивался, что скажет Зверев о звучности русского перевода.
В декабре 1966 года, избив очередную возлюбленную, Зверев окопался в пенале моей мастерской на улице Щепкина. Этот замечательный человек, пивший до белой горячки, бивший людей по морде, постоянно рычал, шипел, визжал, плевался в окружении заступников и опекунов – от престарелых вдов до несовершеннолетних девиц, смотревших на него как на божество. Человек деревенской складки, малообразованный, но страшно чувствующий культуру целиком, никуда не лез. Его сношение с Государством ограничивалось общественными местами – буфет, стадион, музей, туалет, милиция. Большой любитель футбольной игры, он приходил на стадион одетый в дорогой костюм и дорогие туфли, которые разваливались сразу – от первого удара по мячу. Рожденный в подлом сословии, он до конца своих дней оставался аристократом высшей пробы – и духом, и бытом. Размах его натуры всегда был ошеломляющ. Двери лучших московских ресторанов сразу открывались настежь при его появлении. Швейцар получал червонец в зубы, гардеробщик в лапу, официантка за пазуху.
Зверев жил одним днем, не заглядывая вперед. Утро начиналось шампанским, день – пиршеством, а вечер – пьянкой и дракой. Всегда находились молодцы с толстыми кулаками и твердых правил. Они били художника до полусмерти, как самого ядовитого гада, и сдавали в милицию на очередную обработку. Свой гнев и «учение» Зверев вымещал на гражданах с зачатками человечности. Этим, не растерявшим совести, доставалось больше всего оплеух и разбитых стаканов. Граждан, не имевших совести, он старался обходить стороной. Зверев к ним не пришел до сих пор, и они промолчали его смерть в прессе. Ни одна советская газета не обмолвилась о смерти великого художника.
Увы, это так. Инерция запрета продолжала свое черное дело. Должно было пройти время, чтобы все встало на места, уладилось, образовалось. Чтобы злость и досада уступили место радости и пониманию.
И всё же он никогда не унывал. Его хитроватая, многозначительная усмешка вселяла безграничный оптимизм и надежду в его друзей, собутыльников – таких же гениальных полубездомных изгоев, как он сам. Там, где появлялся Анатолий Тимофеевич, начинались шумные пиры, растягивавшиеся подчас на недели. Гуляли нищие богачи – оборванные, обносившиеся короли духа, философы жизни и смерти, умевшие подниматься выше любых презренных, обывательских «достижений», пророки, бросившие вызов погрязшему в суете и коррупции человечеству. Места встреч неизменно объявлялись «Парнасами». Спиртное лилось рекой. Закусывали скромно – черный хлеб, соленые огурцы. Пили из единственного, чудом уцелевшего стакана, пуская его по кругу.
Любимым его словом было «увековечить». Он употреблял его, обращаясь к букету цветов на дачной веранде. Или, лукаво подмигивая владельцу, к породистому, холеному псу. Или к ослепившей воображение очередной Прекрасной Даме. Чаще же – к первому встречному с предложением «за трешник» набросать карандашный портрет.
– Хочешь, увековечу?
В сущности, чего бы ни касалась его стремительная и виртуозная кисть – он увековечивал прежде всего дарованную лишь немногим избранным художникам возможность прорыва за границы дозволенного, волшебство, мощь и возможности Искусства. Поэтому Анатолий Тимофеевич Зверев навсегда останется недосягаемым идеалом творческой раскрепощенности, уникальной свободы от каких бы то ни было «тенденций». Люди со столь высоким градусом личной и духовной независимости стоят целого поколения. Они оставляют после себя иной, преображенный мир.
Последним его Парнасом стал заброшенный, предназначенный к сносу старинный особняк в одном из арбатских переулков, в котором обрели временное пристанище окрестные бродяги и пьяницы. Заправлял здесь известный московский чудак Виктор Сергеевич Романов-Михайлов – в некотором смысле заменивший Анатолия Тимофеевича в роли патриарха и заводилы богемной братии.
Неподалеку его и отпевали. На панихиду в церковь Ильи Пророка, что в Обыденном переулке возле Остоженки, собралась тысячная толпа, запрудившая соседние переулки. Атташе по культуре чертыхались, не находя места для парковки. Клошары, пользуясь безнаказанностью, демонстративно прикладывались к бутылкам прямо на паперти. В гробу его лицо обрело истинные черты. Пришедшие узрели умиротворенный лик святого, философа, аскета, подвижника.
За несколько дней до внезапной своей кончины (декабрь 1986 года) он записал на подвернувшемся клочке бумаги:
Искусство должно быть свободным. Хотя это и очень трудно. Потому что жизнь человека несвободна.
Как часто случается с гениями, его наследие трагически непоправимо разминулось с выставочными залами, музеями, галереями России. Личной вины художника в том нет. Он не заботился о популярности, творя там, где находился. Здесь же оставлял созданное. Забирать с собой было некуда.
История с организацией посмертной выставки трудившегося во благо отечественной и мировой культуры Анатолия Тимофеевича Зверева (1931 – 1986) грустна и поучительна. Ни одной работы покойного мастера не оказалось в государственных собраниях!
Впрочем, кто старое помянет…
Славно, что третье и окончательное открытие художника Зверева состоялось на его родине. Как, собственно, и должно было рано или поздно случиться.
Преемник
Мощь и глубина традиции определяются не столько количеством, сколько духовным уровнем ее последователей. В этом смысле живописные открытия Анатолия Тимофеевича Зверева оказались в надежных руках. Их триумфальная агрессия успешно продолжается, они по-прежнему в моде, и всякий, кто хоть однажды испил из этого заряженного феноменальным потенциалом источника, уже никогда не избавится от всепроникающей магии Искусства. Так в один прекрасный день некто, повинуясь безотчетному велению из ниоткуда, отправляется в никуда на поиски неизвестно чего. В результате наиболее дерзкие, отважные и одержимые обретают право называться Художниками.
Из множества зверевских Парнасов самым плодотворным и «болдинским» оказалась десятиметровая конура в убогой пятиэтажке на далекой окраине Москвы – жилище его молодого коллеги и единомышленника Виктора Казарина. Когда перевариваешь содержимое сотен, тысяч холстов – обильные и щедрые плоды этого без преувеличения исторического альянса, поражаешься поистине божественной предназначенности обоих живописцев друг другу. Нет и тени сомнения, что встреча Учителя и Ученика была запланирована где-то «там», откуда все видно наперед и задолго – настолько духовный отзвук соответствует первоисточнику.
Кроме того, Виктор Казарин, конечно же, соответствует времени и обстоятельствам, в которые помещен. Они, само собой, несколько ужесточились по сравнению с богемной беззаботностью прошлых «цивилизованных» лет. Увы, всеобщее варварство и одичание отметили своей неизгладимой печатью следующее поколение наших современников. Их мироощущение более трагично и конкретно – эстетика салона безвозвратно сошла на нет, уступив место физиологической разнузданности улицы. Утонченность спасовала перед натиском толпы, вкусы огрубели. Отныне, чтобы быть понятым, творцу необходимо овладеть навыками поведения в дурном обществе.
Как бы там ни было, но только что пережитый ажиотаж вокруг современного русского авангарда начался с Виктора Казарина. Трогательное неистовство его полотен оказалось первой ласточкой приближающегося восстания масс. Именно он сделал экспрессионизм самым популистским направлением, элегантно и непринужденно пустив в оборот доставшееся ему фундаментальное, но лежавшее мертвым грузом наследие. Так когда-то Маяковский, утилизовав тайнопись Хлебникова, сделал ее достоянием масс.
С тех пор, как ушел из жизни Учитель, время для Ученика остановилось. Исчезло все суетное, наносное, поверхностное. Остались огромные белые пустоты, как окна в неведомую и таинственную реальность, познание и создание которой – стороны одной медали. Виктор Казарин живет так, как ему завещано, отдавая себе отчет в степени взятой ответственности, ведь последнему труднее всех – надо торопиться удовлетворить спрос, насытить рынок, успеть высказаться до конца, чтобы освободить идущих следом от эпигонства и компиляторства. Всё вместе это составляет беспросветное, безоглядное подвижничество во славу русского авангарда, в результате которого умножается духовный авторитет нации.
Он похож на Сергея Есенина и Юрия Гагарина одновременно – и не только внешне. Некоторым паренькам из российской глубинки всегда будет суждено пускаться наперегонки с эпохой и побеждать. Холсты Виктора Казарина – заветная мечта любого, кто причастен к собирательству современного искусства. Его фамилия прочно возглавляет список московских художников, особенно высоко котирующихся на международных аукционах. Иначе нельзя. Малейшее снижение уровня, утрата актуальности будет предательством высоких идеалов, по праву унаследованных им от Мастера.
После гения-интуитивиста неизменно приходит гений-профессионал, который делает похоже, но качественнее. Тем самым преемник обессмертивает и фиксирует традицию. Культуре одинаково не обойтись ни без тех, ни без других.