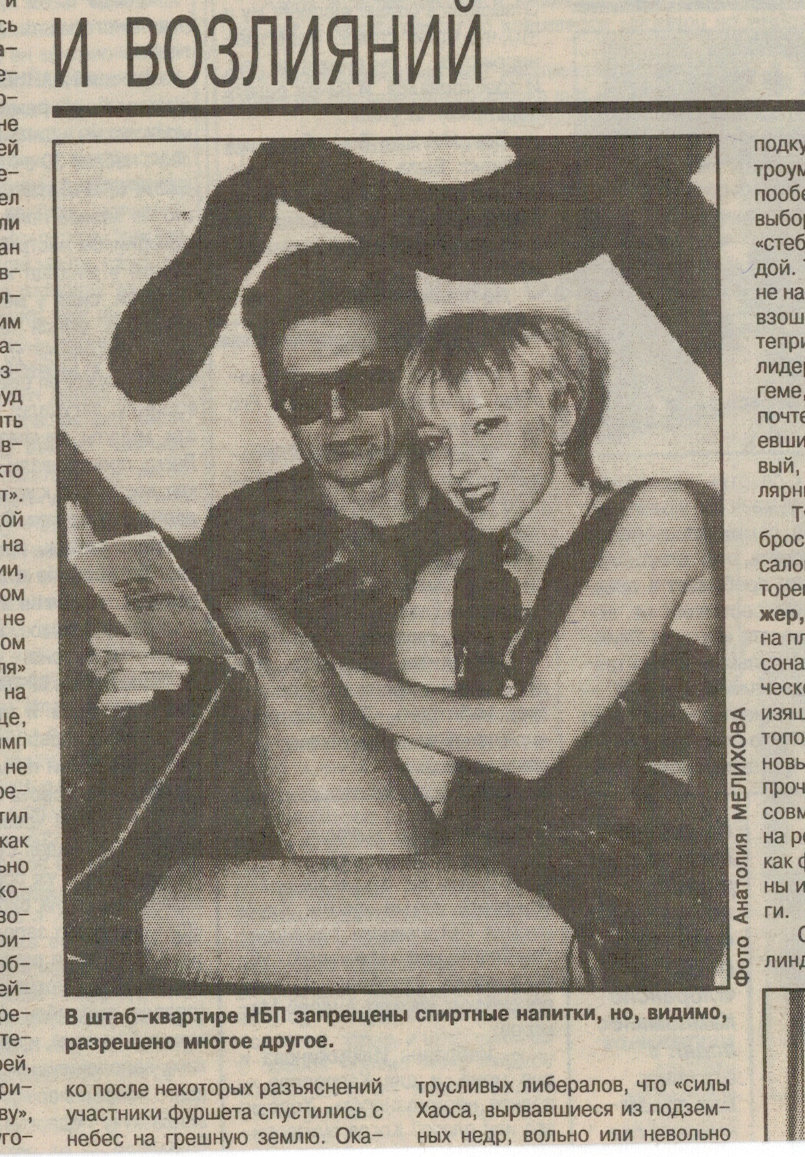Испытывая по причине хронической нехватки времени острую недостаточность в женских ласках и прочих телесно-чувственных ощущениях, обозреватель «М-Э» с чуть ли не щенячьим восторгом откликнулся на предложение посетить генеральную репетицию, а точнее презентацию спектакля «Пленник», созданного одним из «подразделений» творческого объединения «Ню—арт» – Театром пластической драмы имени Александра Демидова. Собственно, так теперь называется возникший на волне «перестройки» знаменитый «эротический» театр, основанный безвременно скончавшимся режиссером и балетным критиком Александром Демидовым – первым из постановщиков, кто не просто отважился показать «совковому» зрителю обнаженное тело, но умудрился собрать и сплотить целый коллектив фанатично преданных ему единомышленников, объединенных мечтой раскрепостить сознание «ушибленного» идеологическими запретами общества. В его сценических мистериях актеры легко и непринужденно сбрасывали одежды, чтобы научить «отмороженную» публику азбуке любовных отношений, наглядно продемонстрировать сексуально обездоленному поколению, что такое любовная игра, исступленное безумство страсти, таинство совокупления. По мере проникновения эротических шоу в индустрию развлечений «новых русских» профессионально вышколенной демидовской труппе пришлось вступить в нешуточную конкурентную борьбу с размножавшимися со скоростью лобковых вшей вульгарными самодеятельными «стриптизерками». Страсть наткнулась на противодействие похоти. Философию потеснил скабрезный анекдот. Эстетика деградировала до «конкурсов красоты». Чтобы не утратить завоеванной популярности, новому поколению «демидовцев» пришлось переосмыслить пройденный путь и начать поиски собственной «культурологической ниши». Наработанное учителем взялась продолжить и преумножить его любимица и примадонна Алена Чубарова – единственная, кто играл ведущие роли во всех до одного спектаклях театра начиная с первого. «Пленник» стал дерзким вызовом корифея, брошенным дилетантам. Взяв в качестве сценарной основы рассказ Всеволода Гаршина «Красный цветок» и «интеллектуализировав» его идеей Поля Валери о самопознании как нескончаемой и изнуряющей схватке человеческого разума с порождаемыми им же самим химерами, г-жа Чубарова воплотила на арендуемой коллективом малой сцене Театра имени Гоголя причудливую фантасмагорию, в которой «эротическое начало» присутствует не в виде эпатажной «демонстрации полового акта», а постепенно, от эпизода к эпизоду наэлектризовывает атмосферу действия, доводя «эрекцию» зрительного зала до чуть ли не «космического» напряжения.
Актрисы – лихие, раскованные и по-декадентски отчаянные на сцене, после «прогона» вышли пообщаться с журналистами за стаканом сухого. Роковые дивы с пылкими, трепетными телами, изысканными очертаниями девичьих прелестей, хрупкими линиями позвоночника и нежной кожей, в течение часа терзавшие воображение обозревателя «М-Э» обещанием несуществующего блаженства, оказались скромными и застенчивыми девушками, обремененными не сданными из-за репетиций экзаменами, нищенской (по причине драконовских условий аренды) зарплатой и отчасти участью «белых ворон». Флиртуя, обозреватель «М-Э» с удивлением обнаружил, что представление с эротической подоплекой с закрытием занавеса не закончилось, и почувствовал себя его активным участником.
•
В Старом Английском дворе на Варварке прошел аукцион современного искусства. Накануне потенциальные покупатели имели возможность прицениться к «товару» и «за рюмкой чая» пообщаться с его «производителями». Инициаторы мероприятия – Музей истории Москвы, Международная федерация художников при ЮНЕСКО и Ассоциация русских художников в Париже – выставили двести холстов и скульптур, состязавшихся между собой в «коммерческой» привлекательности. Фигуративные композиции «для интерьеров» с учетом запросов далеко не бедствующих заказчиков были добротно и дорого оформлены. Презентацию сопровождали «живая» классическая музыка и парад манекенщиц, облаченных в «Сны в средневековой башне» кутюрье Милы Надточий. Элегантные «шлемы» и «кольчуги» смешались с малиновыми пиджаками бизнесменов, строгими костюмами политиков и легкомысленными «толстовками» художников на общем фуршете с «настоящим» шампанским. Ведущий предстоящих торгов журналист Михаил Слуцкий устроил импровизированную предаукционную «разминку», умудрившись «впарить» бутылку портвейна аж за тысячу долларов. Правда, наличными их не получил, что вызвало среди публики сомнение в «подлинности» сделки.
Судя по всему, у аукциона в Старом Английском дворе неплохие перспективы со временем стать чем-то вроде российского аналога его европейских собратьев – «Кристи» и «Сотбис», что подтверждают, во-первых, симпатии столичной мэрии к Музею истории Москвы, перед которым власти испытывают определенное чувство вины из-за того, что он размещен в церкви, отошедшей во владение патриархии, а нового помещения не предвидится. Во-вторых, конечно же, престижность и удобство расположения – хотя и тесновато, но зато сама английская королева присутствием освятила. И наконец «международная» репутация организаторов, обладающих некоторым опытом проведения аналогичных акций за рубежом.
Распродажа, со скидкой на полное отсутствие рекламы, не только окупила предварительные расходы, но и принесла кое-какую прибыль, вдохновившую устроителей на дальнейшие попытки.
•
Нынешний «карнавальный» сезон открылся в мастерской московского стилиста Сергея Малютина в Слесарном переулке. Первое гулянье, приуроченное к дню рождения художницы и модельера Ирины Ратушняк, омрачило известие, что уютный деревянный дом, где функционирует гостеприимный салон, через месяц будет снесен. Однако предстоящий переезд, как показалось обозревателю «М-Э», не только не омрачил настроения г-на Малютина, но даже вдохновил его на «пьянку до последнего патрона», что, по всей вероятности, подразумевает перманентное костюмированное застолье, которое продлится вплоть до святок.
На улице при входе в мастерскую гостей и прохожих приветствовали два ящика предусмотрительно откупоренных бутылок водки и шампанского. Невероятно, но ошеломленные пешеходы застенчиво обходили их, несмотря на то, что они стояли поперек дороги, соблазнительно прегораживая тротуар. В разгар веселья толпа ряженых высыпала во двор, где ее ждала насаженная на вертел туша. Завязалась оживленная дискуссия по поводу ее идентификации. Одни кричали, что будут жарить барана, другие называли неопознанный объект «поросенком». В конце концов примирились на «козлятине», хотя обозреватель «М-Э» не рискнул приобщиться к всеобщему пиршеству, подозревая, что изрядно подгулявшие господа лакомились только что освежеванным бродячим псом.
«Мегаполис-Экспресс» № 49 от 13 декабря 1995 года