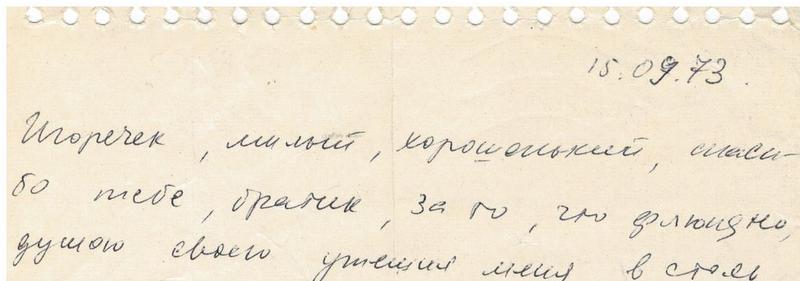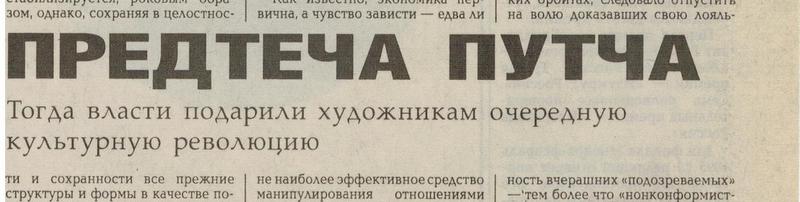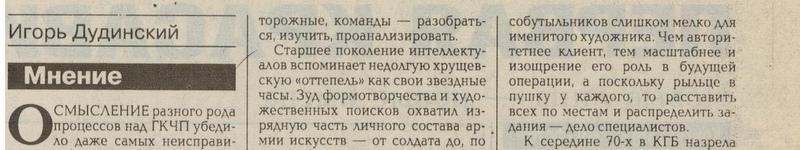Тогда власти подарили художникам очередную культурную революцию
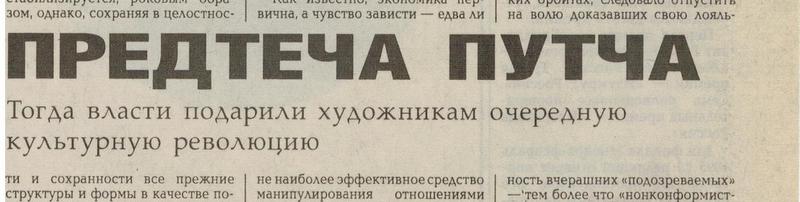
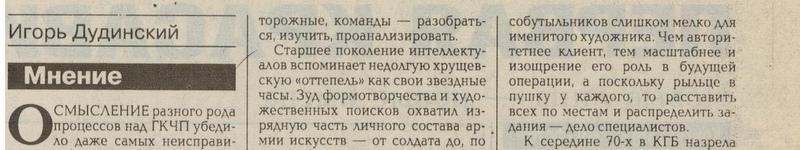
Впервые напечатано в «Независимой газете» в номере от 14 сентября 1994 года
Осмысление разного рода процессов над ГКЧП убедило даже самых неисправимых профессиональных демократов в том, что всякая революция, а тем более в новейшие просвещенные времена, затевается и происходит при тонком и незримом взаимодействии по крайней мере трех игровых команд. Рано или поздно наступает пора, когда «прогрессивные» представители правящей элиты при посредничестве охранных органов вступают в прямой или косвенный контакт с «диссидентами» – обладателями «инакого», не поощряемого официальными идеологами менталитета. Соприкосновение и последующее сотрудничество всех заинтересованных сторон – будь то в сфере культуры, политики или идеологии, – как правило, завершается либо брутальным и бескомпромиссным торжеством «подполья», либо неким подобием конвергенции, но при непременном доминировании бывших опальных и «непризнанных». Затем ситуация временно стабилизируется, роковым образом, однако, сохраняя в целостности и сохранности все прежние структуры и формы в качестве потенциала для грядущих конфликтов и баталий.
Нынешние – скорее всего, идущие на убыль – катаклизмы, ровным счетом ни на гран не нарушив расстановку все тех же составляющих общественного прогресса, тем не менее основательно переворошили содержание каждой из них, тем самым обогатив всю социальную иерархию – от министра до бомжа – бесценным интеллектуальным опытом по распутыванию тайн, интриг и заговоров государственного масштаба. Отныне мы все просто обречены смотреть на предшествующие этапы большого пути не стерильными глазами зрителей всесоюзной премьеры «Ленин в восемнадцатом году», а анализировать текущие, а тем более минувшие события сквозь цензуру всесокрушающей иронии и зрелого скептицизма, которая отныне и, надеюсь, навсегда установлена между нашими умами и навязываемыми нам обстоятельствами.
Одной из поворотных и знаменательных дат в биографии сегодняшнего поколения, чья активность с равным усердием распространилась как на отгремевшую эпоху послесталинского гуманного тоталитаризма, так и на властно вступающую в права эру первоначального накопления, безусловно, следует считать 15 сентября 1974 года. Если вести отсчет от исторического московского молодежного фестиваля (1957), объявившего на весь мир о существовании в СССР «параллельного» искусства, то, пожалуй, любая другая страница героической хроники текущих событий культурной жизни – ни нашумевшее хрущевское «кровоизлияние в МОСХ», ни наполовину осуществившаяся попытка консолидации шестидесятников вокруг процесса над Даниэлем и Синявским, ни выпуск межеумочного «Метрополя», ни еще многие памятные эпизоды догорбачевского периода – по целому спектру показателей (последствиям, которые она внесла в текущую повседневность, мастерству организации, бескровности, уровню задействованности всех заинтересованных сторон), даже с позиций придирчивых потомков едва ли выдержит сравнение с успевшей стать хрестоматийной «бульдозерной выставкой».
Разделение (для кого трагическое, а для кого благодатное) искусства на официальное и «нонконформистское» длилось около 30 лет – с конца 50-х по начало 80-х. Инициатива изобретения сита, сквозь которое просеивалось бы то, что безопасно выносить на обозрение трудящихся масс, а оставшееся рекомендовалось бы для сугубо внутреннего употребления пресыщенного партийно-художественного истеблишмента, исходила отнюдь не от вездесущего КГБ. «Цивилизованные» чекисты нового поколения не спешили компрометировать себя опрометчивыми «классовыми» суждениями о набиравшем обороты «формализме», предпочитая как минимум ограничиться ролью сторонних, но внимательных наблюдателей, а как максимум предлагали возмущенным «реалистам» писать о своих зарвавшихся коллегах в соответствующие партийные инстанции (мол, наше дело сторона – как руководящая и направляющая сила прикажет, так и поступим). И когда хлынувшие лавиной доносы превысили критическую массу, из идеологических недр ЦК последовали первые, поначалу весьма осторожные, команды – разобраться, изучить, проанализировать.
Старшее поколение интеллектуалов вспоминает недолгую хрущевскую «оттепель» как свои звездные часы. Зуд формотворчества и художественных поисков охватил изрядную часть личного состава армии искусств – от солдата до, по меньшей мере, капитана. Возмущенные высшие чины, поначалу растерявшись, втихомолку копили силы для реванша. Тезис хитроумного Евтушенко – о том, что именно кубинские абстракционисты первыми взяли в руки винтовки и присоединились к Фиделю, – сделавшись главным аргументом «левой» творческой интеллигенции, на целую пятилетку сковал руки блюстителям социалистической нравственности, отлично понимавшим, какими непоправимыми последствиями грозит для стерильной, а следовательно, лишенной иммунитета, Системы вирус вольнодумства. «Верхи» лихорадочно искали решающий – убийственный и неопровержимый – контраргумент, который позволил бы осадить не в меру расшалившуюся молодежь и выбил бы почву из-под ног ее ретивых покровителей из новоявленных либералов отечественного разлива.
Как известно, экономика первична, а чувство зависти – едва ли не наиболее эффективное средство манипулирования отношениями между людьми, особенно в без пяти минут коммунистическом обществе. Допустим, у вас внезапно появилась «незаконная» валюта (то есть вы не бурили скважины в дружественной Эфиопии, не делали открытий в области атомной энергетики, не получали Государственных премий за выдающийся вклад в развитие советской культуры), позволившая вам отовариваться в недоступных для граждан вашего пошиба «Березках», ваш образ жизни изменился в сторону явного «обуржуазивания», а среди посещающих ваш дом гостей стали преобладать несанкционированные «иностранцы», и если к тому же за окном раздается тяжелая поступь развитого социализма, то вы рискуете вызвать нешуточный гнев своих куда менее удачливых, но куда более законопослушных товарищей по ремеслу.
Будьте уверены – в самое ближайшее время (перенесемся лет на тридцать назад) вы ощутите заботливую опеку некой таинственной силы. Для начала с вами свяжутся – нет, вы не получите вульгарную повестку с требованием явиться куда следует. Скорее всего, на очередном приеме в каком-нибудь иностранном посольстве к вам подойдет доброжелательный и улыбчивый соотечественник и, рассыпавшись в комплиментах по поводу ваших гениальных, но, к сожалению, несколько опередивших эпоху произведений, выразит желание посетить вашу мастерскую для установления более близкого знакомства. Вы, конечно же, согласитесь, и через несколько дней за рюмкой коньяку ваш неожиданный поклонник ненавязчиво убедит вас, что деваться вам, в сущности, некуда, и поэтому вам ничего не остается, как ради собственного же блага целиком и полностью предоставить себя в распоряжение тех, кто гораздо мудрее и дальновиднее вас – человека хотя и безмерно одаренного, но (как всякий служитель муз) безнадежно инфантильного, позволившего небезызвестным агентам ЦРУ не только вовлечь себя в сомнительные валютные махинации, но и использовать свое громкое имя в неблаговидных политических целях, направленных на подрыв существующего строя, ослабление международного авторитета социалистической родины и т.п.
Именно «иностранцы» со всеми вытекающими из общения с ними последствиями и стали заветным козырем готовившихся к последнему и решительному бою консерваторов, тем капканом, в который попадал каждый руководитель страны, вынужденный – подчас вопреки желанию – принимать решение в очередной раз потуже «закрутить гайки». Увы, за право выделяться, самоутверждаться и не бедствовать авангардисты третьей волны расплатились с лихвой – прежде всего жесткой ангажированностью и постоянной зависимостью от то и дело меняющихся условий игры. Впрочем, большинство, поборов угрызения совести, убедило себя в том, что путь к высокой цели неизбежно проходит сквозь темные лабиринты компромиссов, тем более в нелепой и дикой Совдепии, где двойные стандарты никогда не считались чем-то греховным. И мало-помалу смирилось, привыкло, приспособилось.
Само собой, речь не идет о примитивной вербовке и позорном стукачестве, упаси Бог (хотя без профессиональных осведомителей тайные замыслы не осуществляются) – да и закладывать вчерашних собутыльников слишком мелко для именитого художника. Чем авторитетнее клиент, тем масштабнее и изощрение его роль в будущей операции, а поскольку рыльце в пушку у каждого, то расставить всех по местам и распределить задания – дело специалистов.
К середине 70-х в КГБ назрела необходимость избавиться от балласта, закрыв переставшие быть актуальными и перспективными дела. Пока демдвижение в лице правозащитников переживало пубертатный период, органы оттачивали мастерство на тех, кто всерьез никогда их не интересовал – скажем, на тех же невинных и ни в какую не желавших свергать существующий строй смогистах, которых им пачками «сдавали» не согласные делиться лаврами в ту пору едва входившие в моду, а ныне маститые «шестидесятники». Однако, окрепнув и возмужав (конечно же, не без помощи опекунов с Лубянки). диссиденты-антисоветчики, чьи амбиции и претензии распространялись не только на Кремль, но и на Белый дом, наконец-то по-настоящему убедили геронтократов из «ленинского штаба», что советские чекисты хлеб едят не даром. И прежде чем начать осваиваться на более высоких орбитах, следовало отпустить на волю доказавших свою лояльность вчерашних «подозреваемых» – тем более что «нонконформистские» холсты уже успели прочно обосноваться в апартаментах далеко не последних лиц государства.
Опыт показывает, что незримые «друзья народа» начало каждого очередного этапа своей деятельности (или конец предыдущего) отмечают шумным, эффектным и по возможности массовым действом. Вселенский резонанс обеспечивает «скрытую» рекламу. К тому же периодически назревает потребность «подставить» кого-то из местных партийных дуболомов, расчистив место для более цивилизованных «искусствоведов в штатском», способных самостоятельно и вполне креативно ориентироваться в сложной внутриполитической обстановке. Плюс в качестве традиционных наград за выслугу лет вполне уместно презентовать участникам представления определенный политический капиталец – например, дать возможность покрасоваться в роли мучеников режима, жертв идеологического пресса, борцов с тоталитаризмом. Эх, неплохо бы для вящей убедительности напустить на вольнодумцев еще и танки – хотя, пожалуй, и рановато, нынешний хозяин по слабоумию чего доброго за чистую монету примет и в штаны наложит. Лучше (пока) что-нибудь побезопаснее – например, бульдозеры.
В результате потешно-показательного сражения на окраинном московском пустыре проигравших не оказалось. Победили все. Гонимые и преследуемые мгновенно, практически на следующий же день, превратились из героев фельетонов в объект всенародного интереса – массового, ошеломляющего паломничества, в обладателей собственного клуба с выставочными залами, куда выстраивались километровые очереди, а девушек проводили по протекции. Кто изъявлял желание воплотить заветную и недосягаемую мечту о Европе, получал роскошную мастерскую в центре Парижа или живописный музей в изгнании. А главное – они обрели долгожданную свободу купли-продажи, открыли валютные салоны, въехали в роскошные мастерские. Став полноценными хозяевами собственной судьбы, вчерашние «нонконформисты» легко и непринужденно оттеснили на задворки культурной жизни всех своих гонителей и недоброжелателей, перехватив у тех лакомые государственные заказы. Отныне малейшее посягательство на «формализм» расценивалось как покушение на права человека.
И не беда, что КГБ поставило руководить ими «своего» человека (годы-то как-никак застойные!), а в стане победителей тут же вспыхнули бурные разногласия. Художники – народ смекалистый, поднаторевший. Незадачливого гебиста вскоре элементарно споили, а внутренние волнения погасили откуда ни возьмись мгновенно появившиеся оборотистые «паханы» – с помощью жестко регламентированной системы распределения благ и подачек.
Результат той памятной акции настолько превзошел самые дерзкие ожидания, что еще в течение целых полутора десятилетий каждая очередная команда «инакомыслящих», едва успев сформироваться, начинала без устали допекать властей предержащих требованиями о посылке на них бульдозеров. Почему их коллективная молитва была услышана только в августе 91-го? Предоставим искать ответ более дотошным и юным следопытам.
…Тогда, в сентябре 74-го, на беляевском пустыре собрались толпы любопытствующих, с радостным визгом разбегавшихся от поливальных машин. Счастливые лица, улыбки, смех. Словом, праздник. Совсем как в октябре 93-го на площади перед Верховным Советом. С единственной разницей: в 1993-м разбегались уже от автоматных очередей.
Что ни говори, а путчи и революции – дело веселое и прибыльное. Во всяком случае в России.

15 сентября в выставочном зале «Беляево» (Профсоюзная, 100, рядом с метро) в 18.00 откроется юбилейная экспозиция «Двадцать лет «бульдозерной выставке». На ней будут представлены работы художников – участников «бульдозерной выставки» – Оскара Рабина, Владимира Немухина, Евгения Рухина, Юрия Жарких, Лидии Мастерковой, Виталия Комара и Александра Меламида, Сергея Бордачева, Александра Рабина, Надежды Эльской, а также фотографии тех лет. Вход на выставку свободный.