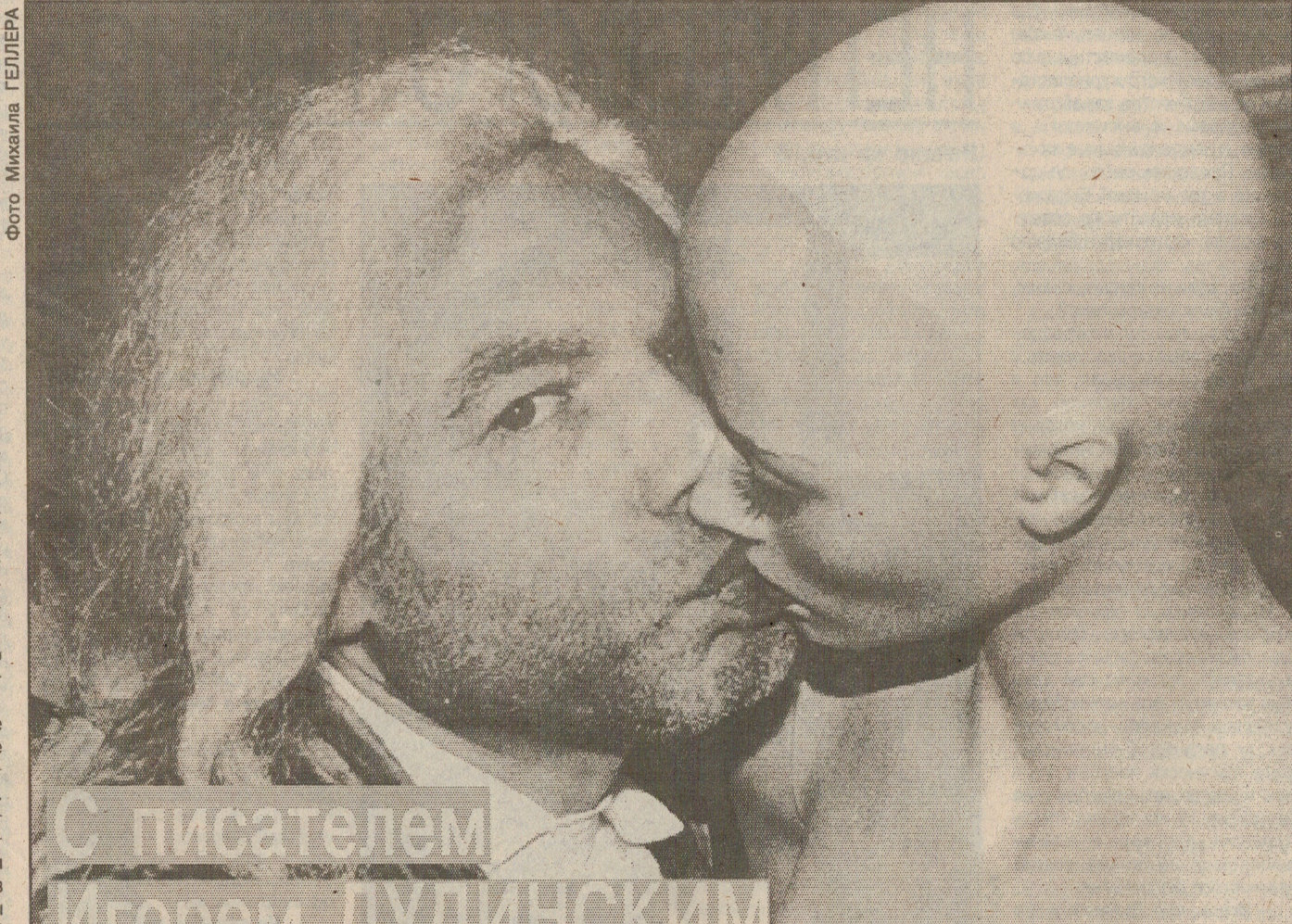Впервые напечатано в еженедельнике «Мегаполис-Экспресс» № 2 от 17 января 1996 года
С писателем Игорем Дудинским беседует обозреватель «М-Э» Вадим Трухачев
– Игорь, ты не возражаешь, если мы поговорим с тобой не как с известным культурологом и литератором, а как с вечно живой легендой московской тусовки?
– Что я легенда – я согласен. Что же касается «вечно живого», то будем судить по количеству скорбящих, пришедших на мои похороны, которые, судя по всему, не за горами.
– Откуда такая обреченность?
– Образ жизни иного поворота событий не предусматривает.
– Ну-ну. Ладно, с какого этапа жизненного пути начнем?
— Начнем мы с традиционных ста граммов. Кстати, самые первые сто граммов я принял, когда мне было лет десять. Как раз проходил Московский фестиваль молодежи и студентов 57-го года. Я сбежал из Серебряного Бора, где жил с отцом на правительственной госдаче.
– То есть ты, как принято говорить, из золотой молодежи?
– В таком сопливом возрасте в тот замечательный клан еще не принимали. Но отец мой действительно был из «самых-самых». Потомственный дворянин, который не только умудрился сделать блистательную карьеру при Сталине, но даже стал одним из авторов хрущевской программы КПСС, обещавшей нам скорый коммунизм.
– Куда же ты сбежал от папочки?
– В парк Горького, где впервые в СССР выставились наши и западные авангардисты. Шок, потрясение были настолько велики, что без преувеличения перевернули всю мою жизнь. Мне открылся совершенно особый, свободный мир, где я был всего лишь зрителем. Но мне мучительно хотелось стать и его участником. Именно на вхождение в богему и были потрачены несколько следующих лет.
– Что не помешало тебе «учиться, учиться и учиться»?
– Моей потенции хватило ровно до седьмого класса. К тому времени лямка, которую я тянул, стала слишком натирать. Летом 61-го отец имел глупость взять меня с собой в писательский Дом творчества в Коктебеле. Отец не был писателем, был экономистом, но его пригласил туда его близкий друг – первый секретарь крымского обкома. В Коктебеле же в то время проходил неформальный съезд советских битников. Скажем так, я принял в нем участие и в школу больше не вернулся.
– Как же смирился с твоим поведением высокопоставленный отец?
– В то время он был занят исключительно своей любовницей и попутно разводился с моей матерью. Дело в том, что отец был настоящим плейбоем. Людям высокого ранга система разрешала многое. И он пользовался своими привилегиями на полную катушку. Правда, количество женщин у него иногда «зашкаливало». Мать с его поведением смириться, конечно же, не могла.
– Стало быть, ты оказался в свободном полете? И куда же ты улетел?
– В самое пекло московской подпольной богемы. Впрочем, кайф от алкоголя я познал раньше, чем кайф от обладания женщиной. «Дали» мне только два года спустя. До того дело дальше минетов не шло. Дома я не ночевал по нескольку дней, предпочитая мастерские художников, ставших «моими университетами».
– Подожди-подожди. Ведь учеба в школе была тогда делом обязательным. Государственным.
– Я блефовал. Подавал документы в ПТУ, но на занятия не являлся. Через полгода спохватывались, но я сбегал в другое аналогичное место, где также ни разу не появлялся на занятиях. Вскоре встала проблема «почетной обязанности», что вовсе не входило в мои планы. Друзья-стиляги говорили: «Лучше покончить с собой, чем идти служить». Тогда я обратился к матери. Я попросил: «Мам, скажи в военкомате, что я шизофреник». Тогда такого материнского признания было достаточно, чтобы «закосить». Но мать была чересчур идейна и самолюбива и отказала мне, сказав: «Я не могла родить сына-шизофреника». Короче, пришлось упасть в ноги отцу.
– К тому времени он еще от тебя не отказался?
– Он постоянно грозился, но только на словах. И я чувствовал, что он меня любит. И пользовался его чувством ко мне. Помог отец и увильнуть от армии, что было моей главной целью. Он сделал так, что я без экзаменов и с «липовым» школьным аттестатом поступил в Московский университет на самую элитарную специальность. Я оказался одним из пяти счастливчиков, зачисленных в «спецгруппу» экономического факультета, специализирующуюся на США. Вот так-то.
– Но, насколько я знаю, тот факультет ты так и не окончил?
– Естественно. У меня с первого дня было инстинктивное желание порвать с учебой. Я продолжал кирять и трахаться в своей подпольной тусовке, пока судьба не завела меня в декабре 65-го на Пушкинскую площадь, на первую диссидентскую демонстрацию в поддержку Синявского и Даниэля. Меня тут же выперли из МГУ, не посчитавшись с отцом, который спасал меня, как мог. Но, по большому счету, дураком был я, постоянно «подставляя» отца.
– Ты хочешь сказать, что стал тогда диссидентом?
– Ни в коем случае. Их амбиции были мне по фигу, я отстаивал свою личную свободу. Хочу трахаться – трахаюсь. Хочу читать запрещенную литературу – читаю. Главным была не пьянка. Она служила всего лишь формой, за которой стояло содержание. Интенсивный ежедневный обмен интеллектуальной информацией. Она и по сей день мой самый ценный багаж. Фактически я опередил многих своих тогдашних сверстников. В конечном счете, скрываясь от армии, я вынужден был около года странствовать по русскому Северу. Но меня нашли и там.
– И что же – пошел служить?
– Нет. В очередной раз рухнул в ноги отцу. Отсрочку он мне обеспечил. Опуская некоторые подробности, скажу, что я оказался на факультете журналистики МГУ. Горжусь, что поступил туда без отцовской протекции и вмешательства. С поступлением на журфак в моей жизни начался этап поистине шекспировских страстей. Со своими связями и интеллектуальным багажом я просто не мог не оказаться в поле зрения КГБ. «Комитетчики» организовали на факультете свою «спецгруппу», куда я и попал.
– Стал стукачом?
– На такие мелочи я бы просто не согласился, поскольку играл в гораздо более захватывающие игры. Нам читали лекции наши ведущие разведчики. И на последних курсах я уже принимал участие в разработках некоторых крупных «гэбэшных» проектов, связанных с получением больших валютных сумм в государственную казну. В частности, мы занимались тем, что тайно продавали на Запад «запрещенные» в СССР рукописи и произведения опальных художников. Но язык мой – враг мой. Я раздал слишком много интервью западным журналистам, с которыми был знаком и практически ежедневно общался, что называется, на короткой ноге. Возмездие не заставило себя долго ждать, но я не предполагал, что оно будет столь коварным. Я сдал на отлично госэкзамены, отмаршировал опять же на отлично в военных лагерях, защитил диплом, связанный с «гэбэшной» тематикой, но в день его вручения меня вызвали в некий кабинет, где сказали, что «решением высшей аттестационной комиссии» (до сих пор не знаю, что они имели в виду) «за поступки, не совместимые со званием советского журналиста» меня лишают честно заработанного диплома и высылают… в Якутию, в самое тамошнее захолустье. Представь себе мое состояние в тот момент. Выражаясь словами известного советского поэта, «артиллерия била по своим».
– Но, если не секрет, скажи, кто проявил инициативу?
– Дело в том, что я переоценил веяния эпохи и свое место в ней. Я искренне думал, что я «крутой», а меня «опустили», как щенка те самые люди, которые только что соблазняли меня самыми сказочными перспективами. Но сославшая меня «гэбуха» запросила предварительно экспертное заключение у бонз факультета. Его подписали три человека, включая декана журфака – тогдашнего и нынешнего – Ясена Засурского. Прошли годы, жизнь сложилась, и страсти улеглись, но и по сей день меня тошнит от его имени. Между прочим, еще двое, подписавших ту поганую бумаженцию, вскоре трагически погибли. Но я знаю и другое, что касается г-на Засурского. Не исключено, что он заключил договор с самим Дьяволом в обмен на секрет физического бессмертия.
– Игорь, про Дьявола и его «слугу» Засурского ты говоришь серьезно? Или все—таки чуть-чуть блажишь?
– Зря иронизируешь. В богемном подполье я прошел отличную школу мистицизма и вполне отвечаю за свои слова.
– Добро, не будем углубляться. Так ты отправился по определенному тебе адресу – в Якутию, на край света?
– Я отправился еще дальше, потому что, к счастью, опять же вмешался отец. Он помог переправить место моей ссылки на Магадан. Из Якутии я бы никогда не выбрался. Как автономия, она в определенном смысле была не подконтрольна Кремлю. Меня бы там просто сгноили, о чем я получил недвусмысленную информацию. Золотоносный же Магадан напрямую управлялся «ребятами» из ЦК КПСС – друзьями моего отца.
– Какого же черта ты там делал?
– О, надо представить себе, что такое Магадан той эпохи. Настоящее государство в государстве, как Гонконг. Год ушел на то, чтобы я смог приспособиться к местным чудовищным законам. Конечно, я вовсе не оставался столь долго обделенным, а наслаждался женским обществом буквально со второго дня своего пребывания в столице Колымского края. Но ощущение, что ты как бы в «зоне», заставляло выбиваться в люди. Уже через год я ощущал себя чуть ли не королем.
– В каком смысле?
– Да в любом. Стал заведующим молодежной редакцией магаданского отделения Гостелерадио. Членом горкома комсомола. А для души оставалось еще многое. Например, домашний салон жившего в Магадане любимца страны певца Вадима Козина. Но, что самое интересное, на его же квартире был и своего рода «штаб», «место оттяга» областных гебешников и обкомовцев. Самого опального Козина его положение вполне устраивало, потому что основными посетителями его салона по-прежнему оставались высокопоставленные «голубые» практически со всего Союза. Козин рассказывал, что Сталин сослал его в Магадан после того, как ему вручили бриллиантовую звезду от всемирной лиги гомосексуалистов. По каратам награда превосходила орден «Победы» и вручалась по статусу, как рассказывал ее обладатель, «одному человеку раз в поколение». Награду у певца отобрали на Лубянке, но соболиную шубу до пят все-таки оставили. Шубу для жены изъял главный гэбэшник Магадана – некий товарищ Никишов. В общем, ко времени моего прибытия Магадан гудел на полную катушку, так что было где проводить время. Тем паче что в начале семидесятых, когда я был там, Магадан по количеству питейных заведений на душу населения не уступал Парижу.
– Извини, в салоне Козина ты часом не «поголубел»?
– Ха-ха. Мне пришлось бы наступать на горло собственной песне, идти против своей природы. А ради чего? Магадан всегда славился в некотором смысле интернационализмом и плюралистичностью. Город строили пленные японцы, оставившие там ослепительной красоты метисок. И буквально второй моей, пожалуй, самой пронзительной любовью там стала японка. Вообще же итогом двухлетней ссылки оказались восемь трипперов. Их последствия я и по сей день ощущаю на себе в самые неподходящие моменты.
– При таком «послужном списке» когда ты находил время для профессиональной журналистско-комсомольской деятельности?
– Одно другому, как известно, никогда не мешает. Я использовал ссылку для продолжения своих московских приключений. Летал, к примеру, за репортажами на Чукотку. Причем не раз. Репортажи репортажами, но ты даже не представляешь, какое там поле для этнографа-сексолога. Тогда даже кремлевский истеблишмент посылал гонцов на Чукотку в поисках горничных и домработниц. Им же впоследствии поручалось сексуальное воспитание половозрелых кремлевских чад. Мне как журналисту-первопроходцу тоже кусок чукотской эротической экзотики обломился.
– Правда, что чукчи подкладывают под почетных гостей своих жен и дочерей?
– Такая легенда родилась не случайно. Гости у чукчей настолько редки (я имею в виду тех чукчей, которые живут в ярангах на огромных расстояниях друг от друга), что для них совершенно естественно воспринимать гостя как посланца внеземных миров. Главное – прийти к ним другом, а не агрессором. Наверное, именно так чувствовал себя Гоген на Таити. У чукчей все происходит настолько органично, что ты не замечаешь, как оказываешься «в постели» с пятью-шестью аборигенками сразу. От двенадцати до тридцати. Хозяина яранги при таком раскладе вопрос супружеской неверности и прочего не заботит – у него иные понятия об этике сексуальных отношений
– И тем не менее проводить жизнь в Магадане и гостеприимных ярангах ты не счел своей планидой? Так?
– Конечно. Я «бомбардировал» письмами отца, и он выхлопотал спустя два года мое возвращение в Москву. Оно было триумфальным. Я, если угодно, опередил Солженицына, проехав, познавая Россию, его маршрутом. На Ярославском вокзале меня встречали человек сто пятьдесят.
– Почему такие «почести»?
– Имело место возвращение «мученика за идею». К тому же у «мученика» в кармане была хренова туча денег, которые тогда на Севере доставались куда легче, чем в столице. Пьянка длилась несколько недель. В перерывах я успел купить кооперативную квартиру, устроиться на работу на телевидение и в очередной раз жениться. На одной из самых «деловых» женщин Москвы. Сейчас она успешно спивается в Мюнхене. Эмигрировала.
– Она которая по счету жена?
– Пятая. Четвертая, делившая со мной последний год ссылки, сегодня тоже спивается, но уже во Франции. А я итожу свои дни с девятой. Подсчет, само собой, подразумевает только официальных жен.
– Не перебор ли?
– Я никогда не ставил своей целью регистрацию интимных отношений. Соблюдать ритуал меня вынуждали совковые законы, связывающие брак с квартирным и другими вопросами. Но в «многоженстве» я не рекордсмен. Например, мой приятель Олег Осетинский был женат где-то раз тринадцать. Но из них по нескольку раз он женился на одних и тех же – видимо, из-за квартирного вопроса. Так что по «абсолютному» показателю я его опередил.
– Понятно. Давай тогда поговорим о твоей жизни между пятой и девятой – нынешней – женами.
– Там целая эпоха. Уже роман, а не интервью. Я бы выделил период с «олимпийского» восьмидесятого по «перестроечный» восемьдесят пятый год. Те пять лет были в моей жизни самыми драматичными. Меня буквально загнали в задницу. Я сменил – опять же из-за давления КГБ – несколько профессий. От грузчика до директора ресторана. Работал даже швейцаром-вышибалой.
– Чем же ты опять не угодил «органам»?
– Я первым в истории СССР зарегистрировал свою квартиру как корреспондентский пункт иностранного печатного органа. И они меня обложили, как волка. Устроили что-то вроде террора. Меня отовсюду увольняли – видимо, надеясь, что сдохну от пьянства и наркотиков. Но я хотел выжить и устроился за солидную взятку на курсы директоров ресторанов. В начале 80-х я стал директоре кафе «Столешники» в одноименном московском переулке, полностью завязав с журналистикой. У меня сложился стратегически план. В то время Дом журналистов закрылся на многолетний ремонт, и я мечтал превратить «свое» кафе в его филиал. Тем более оно называлось «У дяди Гиляя». Но мои интересы обломились об амбиции городски властей.
– Тебя уволили?
– Даже не знаю, как квалифицировать. В «своем» кафе я делал что хотел. Сказать честно – просто напропалую кирял и трахался, используя кабинет и служебное положение. Но в один прекрасный день моя тогдашняя – седьмая – жена увела меня раньше времени с работы. Официально кафе закрывалось в одиннадцать, но иногда мы сдавали его на ночь – под «оргии» популярных личностей. Обычно из аристократической среды. В ту ночь кафе заказал Саша Абдулов. Но он рано ушел. А я доверился барменше. Утром я шел на работу и наткнулся на милицейское оцепление около «Столешников». Оказалось, что во время пьянки в небольшом фонтанчике в одном из залов утонули два студента одного из театральных институтов. Просто с бодуна захлебнулись. После ЧП я был переведен из директоров кафе в швейцары пивного бара «Ладья», более известного как «Яма», что на Пушкинской.
– Ты расценил случившееся как возмездие?
– Не то слово. Слава Богу, не посадили. Но виноват-то, как и во всех своих предыдущих перипетиях, я был сам. Я обитал в обществе, живущем по параграфам, против которых восставала моя эмоциональная стихия. У меня всегда существовал конфликт между разумом и чувством.
– Как же удалось выжить – не спиться, не захлебнуться в каком-нибудь декоративном водоеме, как те студенты?
– Спасибо Горбачеву за перестройку. Она меня спасла – без преувеличения. Новая система позволила мне развернуться как интеллектуалу. Я жадно бросался на все, к чему меня подпускали. Я не имею в виду женщин, а говорю только о работе – журналиста, литератора, культуролога. Мне даже удалось самому учредить несколько изданий, которые заложили основы для развития неподцензурной, в том числе и нынешней оппозиционной, общественной мысли. Говорю о своих успехах, не боясь показаться нескромным. И умышленно не называю тех, кто мне может сказать спасибо.
– Что же тогда пришвартовало тебя к «Мегаполису»? Ведь значительная часть нынешних интеллектуалов считают его одиозным, «чернушным» изданием? Плывешь по-прежнему поперек течения?
– Когда-то, в 60-е, я спорил с друзьями своего отца, тогдашними партийными идеологами, о перспективах авангардного искусства. Они упрекали художников-абстракционистов в том, что те не способны, мол, написать классический портрет. Я же был убежден, что главное – не мастерство. Наверное, я тогда ошибался. Сегодня мои друзья-литераторы, сторонники традиционного слова, голодают. Буквально. Многие из них просят меня дать им возможность заработать. И я предлагаю им для начала написать для «Мегаполиса» обычный газетно-бульварный очерк. Увы, никто из них на такой подвиг не способен. Убежден, что «Мегаполис» сегодня играет роль самого что ни на есть авангарда. Если хочешь – газеты XXI века.