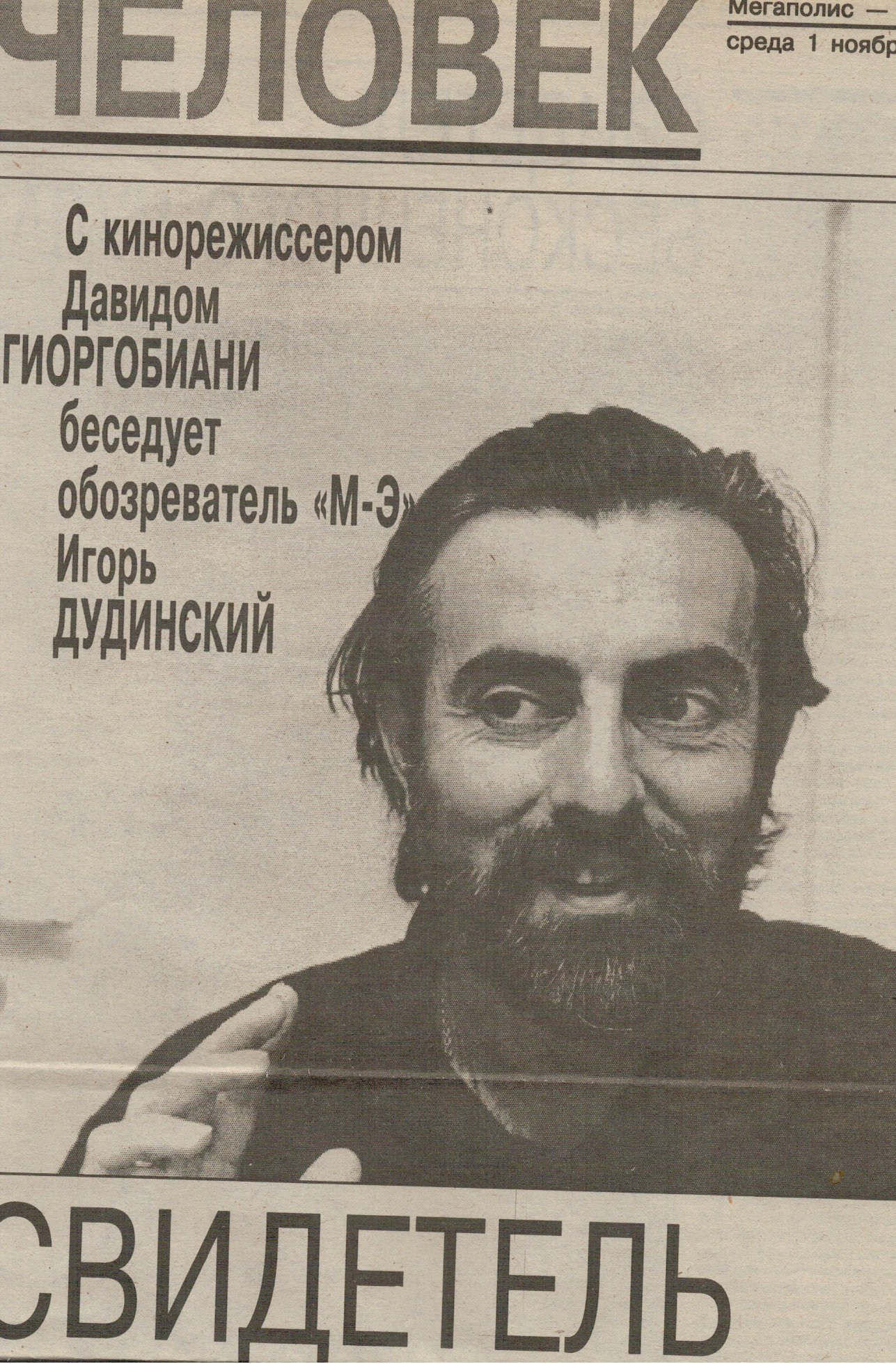Минувшая неделя оказалась для обозревателя «М-Э» перенасыщенной то и дело предъявляемыми ему претензиями. Одновременно несколько знакомых грозят ему судом за оскорбление их якобы «чести и достоинства». Поскольку суммы исков явно несопоставимы с более чем скромным заработком простого московского журналиста и доходят ни больше ни меньше как до «сотен миллионов рублей», то ваш покорный слуга, пребывая в вынесенном из просмотренного в отрочестве фильма убеждении, что «советский суд – самый гуманный в мире», все-таки осмеливается тешить себя надеждой, что его бренная жизнь не окончится на галерах, в каменоломнях или на лесоповале. Особо хотелось бы объясниться со своей старинной знакомой и отчасти коллегой Марией Катковой, по совместительству куратором галереи «Велта». Милая Маша, поскольку мне ежедневно приходится выслушивать миллион упреков в свой адрес, причем высказанных в самых эмоциональных и энергичных выражениях, то я, обладая правом на собственные «честь и достоинство», мог бы бесконечное число раз подавать в суд на «физических лиц», от чьих звонков не то что ежечасно, а ежеминутно разрываются мои домашний и редакционный телефоны. Поверь, драгоценная Мария, что для собирания «компромата» мне стоит всего лишь, как поступают некоторые мои склочные знакомые, сняв трубку, одновременно нажать на кнопку находящегося под рукой диктофона, чего я никогда не сделаю опять же из обостренного «чувства собственного достоинства» (замкнутый круг, как видишь). Пользуясь случаем, приношу тебе и художнику Илье Ходыреву извинения за то, что неверно написал его фамилию в прошлом обзоре, – непростительная оплошность, тем более для репортера популярного издания, но сделай, Мария, скидку на образ жизни, который ведет твой коллега по искусству. С утра до вечера сплошные возлияния. К тому же, согласись, Маша, и журналист обладает правом на «собственную» оценку творчества того или иного автора. А то уж больно односторонняя справедливость получается: если обозреватель о ком-то нелестно отозвался – сразу его в каталажку, а «обозреваемые» как бы заведомо святые.
•
А теперь непосредственно к тусовкам. Началась «неделька» в клубе «Манхеттен-экспресс», где всем известный Сева Новгородцев из города Лондона представлял московской общественности основанный им журнал «О!» Перед началом официальной части представителей прессы по установившемуся с недавних пор садистскому обычаю долго пытали водкой без закуски – уж не знаю, то ли из экономии, то ли из сугубо «стебальных» соображений (мол, понаблюдаем, как долго подопытный журналист продержится на ногах). Вел пресс-конференцию бывший обозреватель «М-Э» Григорий Нехорошев, который на полном серьезе заявил, что доходы от издания книги г-на Новгородцева «Рок-посевы» оказались настолько огромными, что позволили издавать богато иллюстрированный и печатаемый в Великобритании на мелованной бумаге ежемесячник объемом более чем сто страниц. Поскольку вопросы г-ну Новгородцеву задавали не слишком «умные» (типа «не боитесь ли вы, что букву «о» читатели истолкуют как «ноль»?), то обозреватель «М-Э» решил скоротать время за «буфетной стойкой», после чего зашел в туалет, где оказался… рядом со справлявшим нужду «королем диск-жокеев». Времени, пока мы облегчались, как раз хватило на содержательную беседу, из которой выяснилось, что заведует отделом рекламы нового издания сын пришедшей на торжество Галины Старовойтовой Платон Борщевский, что права на распространение «О!» принадлежат еженедельнику «Аргументы и факты», что спонсоров у журнала нет, а есть ангел-хранитель и что г-н Новгородцев ожидает солидную прибыль от рекламы новой водки, названия которой он, к сожалению, произнести вслух не имеет права (сколько, оказывается, информации можно получить, пока «отливаешь»).
•
На следующий день обозреватель «М-Э» вместе с упомянутым г-ном Новгородцевым очутился в Манеже на одновременной презентации седьмого номера журнала «Золотой век» и второго издания книги Николая Климонтовича «Дорога в Рим», где толпящемуся бомонду посулили «короткую, чисто символическую официальную часть» и угощение в виде «фирменного» вина «Золотой век». Правда, ни того, ни другого обещания не выполнили. Речи растянулись на целый час (хотя каждый выступавший начинал с заверения, что «не отнимет много времени»), а вино оказалось обычным молдавским красным. В отличие от тусовки г-на Новгородцева в качестве закуски подавали хлеб «Бородинский» – и только! Хотя спонсором мероприятия выступила кобзоновская фирма «Лиат-Натали» (и не совестно, господа «новые русские»?) К тому же, открыв журнал, обозреватель «М-Э» с удивлением обнаружил в нем эссе Марии Арбатовой «Аборт от нелюбимого», которое он пару лет назад готовил для публикации в газете «Литературные новости», где оно и было напечатано. Однако никаких ссылок на сей счет ваш покорный слуга в «Золотом веке» не обнаружил (вдвойне, господа, должно быть стыдно!) Выступивший с «коротким» (длившимся «всего» минут сорок) словом писатель Евгений Попов застенчиво сравнил «Дорогу в Рим» с «Темными аллеями» Ивана Бунина и долго и нудно разъяснял «любителям литературы и выпить», что «основное преимущество «Золотого века» в том, что он ни с кем не воюет».
•
Затем обозреватель «М-Э» стремительно поспешил в галерею «Дар» на вернисаж родившейся аж в 1915 году «наивной» художницы Елены Андреевны Волковой под названием «Рыбы, птицы и звери», организованный в рамках проекта куратора галереи Сергея Тарабарова «Экологически чистое искусство». Суть программы сводится к тому, чтобы, по словам г-на Тарабарова, поощрять тех, кто пьет воду из горных источников и проверяет еду на радиоактивность, и попутно бороться с «Демонической силой общества потребления – рекламой, заставляющей нас накапливать бессмысленные предметы, забивая дома и души рождающим пыль барахлом». В ближайшее время г-н Тарабаров планирует провести несколько выставок картин, которые он считает «экологически безупречными», о чем их авторам будет выдан соответствующий сертификат, подтверждающий «в лучшем случае безвредность» предлагаемых потенциальным покупателям произведений искусства.
•
Ближе к полуночи обозреватель «М-Э» оказался в салоне Татьяны Недзвецкой, гостеприимно распахнувшем двери для столичного бомонда по случаю благополучного возвращения из США ее супруга художника Ивана Новоженова, где в одной из галерей города Филадельфии у него состоялась совместная со скульптором Эрнстом Неизвестным выставка. Г-н Новоженов рассказал многочисленным гостям о присутствии на вернисаже «около семидесяти знакомых», в том числе Оскара Рабина, Дмитрия Плавинского, атташе по культуре российского посольства Игоря Голубовского и случайно встреченной в Америке своей бывшей московской пассии Галины Артамоновой. Виновник торжества, как обычно, поделился грандиозными планами «радикального изменения ситуации на отечественном арт-рынке», для чего ему якобы обещаны 50 миллионов долларов от «заинтересованных» организаций (на издание роскошного культурологического журнала и открытие Музея современного искусства).
– Я приехал в Нью-Йорк не как проситель, а как завоеватель, – заявил г-н Новоженов. – Я ведь москвич, а не с какого-то там Брайтона.
Персональный переводчик, номер в престижном отеле, постоянный автомобиль – вот далеко не исчерпывающий перечень оказанных г-ну Новоженову на противоположной части земного шара почестей.
•
В воскресенье обозреватель «М-Э» совершил культпоход в цирк на проспекте Вернадского в обществе двух прелестных нимфеток – Ани Фаст и Юли Горбач из 57-й школы, готовящей кадры для политической и интеллектуальной элиты. К сожалению, пригласивший нас дрессировщик тигров Михаил Багдасаров во время исполнения аттракциона повредил руку, в результате чего оказался в медпункте, а девочки, ожидавшие пообщаться после представления «со зверями», остались разочарованными – впрочем, как и обозреватель «М-Э», рассчитывавший пропустить рюмку-другую со старым знакомым.
•
Затем обозреватель «М-Э» обнаружил сам себя в «ТВ-галерее» на заключительном сеансе общения «концептуального» проповедника Владимира Сальникова с паствой, происходившем с помощью электронных средств массовой информации в течение трех дней. Народ с улицы имел возможность заглянуть в помещение, где стоял телевизор, из которого г-н Сальников, провозгласивший себя «мессией технотронной эры», отвечал на злободневные вопросы о смысле жизни и прочей интеллектуальной чепухе. Акция называлась «Спасение пространств» и сопровождалась призывами вроде «Сначала выберите собственный пол, а затем президента», «Сделайте секс грозным» и «Сотрите старые файлы». Самопровозглашенный «учитель» напропалую исповедовал забредших «на огонек» старушек, обалдевших от возможности поболтать с отвечавшим на их вопросы «ящиком» и недоумевавших, «как в него умудрился поместиться такой толстый дяденька».
•
Последним запомнившимся обозревателю «М-Э» мероприятием стало посещение выставочного зала на Малой Грузинской, 28, где наряду с вернисажем группы художников театральная труппа «Иной вид удовольствия» показывала абсурдистский спектакль. Его содержание сводилось к трагедии юноши, которому, чтобы перестать быть уродом (его играл горбатый актер), необходимо до «часа икс» с кем-нибудь переспать. За неимением девушек мать предлагает ему в качестве партнера своего родного брата. Во время «полового акта» в кухню через окно влетает балерина, которую в конце концов начинают хотеть все действующие лица.
Обозревателя «М-Э» и сопровождавших его друзей тепло приветствовала устроительница зрелища – хозяйка одного из московских салонов Марина Голынская. В разгар застолья она щелкнула пальцами, после чего в зал вошла совершенно обнаженная, но с нарисованными юбкой и белоснежным передником девушка. В руках она несла поднос с напитками и кое-какой снедью. Ее присутствие гармонично дополнило и раззадорило разместившуюся за столом изрядно «потеплевшую» компанию.
«Мегаполис-Экспресс» № 43 от 1 ноября 1995 года