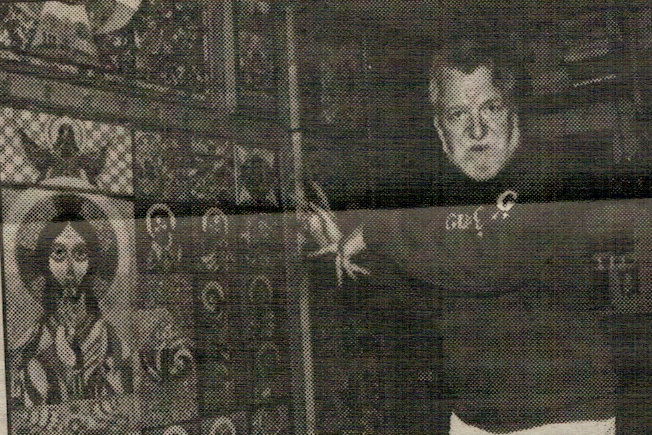Пожалуй, впервые с начала третьей волны эмиграции в столицу съехалось столько наших «соотечественников» – в основном мастеров изящных искусств. Трудно сказать, приурочили ли они свои визиты к открывшейся на минувшей неделе выставке рисунков из собрания немецких коллекционеров Бар—Гера, то ли их всех одновременно свело в Москве божественное провидение, но такого урожайного нашествия «европейских художников русского происхождения» залы Третьяковской галереи на Крымском валу еще не видели. Немухин, Штейнберг, Калинин, Брусиловский, Слепышев, Титов, их российские коллеги сливались в дружеских объятиях. Поцелуям и рукопожатиям не было конца. Хотя событие, послужившее поводом для сходки нонконформистских «авторитетов», вряд ли можно считать из ряда вон выходящим.
Если начать с предыстории, то жил-был на свете еврей Яша по фамилии Бар-Гера. Будучи сыном первых переселенцев из России в Палестину, он воевал в израильской армии и как-то встретил еврейскую девушку Кенду, изучавшую в Германии творчество немецких авангардистов и за свое увлечение и происхождение помещенную фашистами в Освенцим. После войны она, чтобы не бередить душу трагическими воспоминаниями, покинула родину и отправилась пополнять ряды израильского населения. Тем временем Яша, удачно вложив сколоченный в Палестине капитал, обзавелся в Германии собственным бизнесом, связанным с авиастроением, и уговорил Кенду переехать в Кельн. Та долго сопротивлялась (опять же из-за пережитого в Германии ужаса), но, хорошенько подумав, согласилась. Между супругами возник идеальный альянс. У мужа – деньги. У жены – идеи, как их выбросить на ветер. Естественно, лучший способ – открыть собственную галерею (чем же еще заниматься состоятельной женщине да еще с искусствоведческим образованием). Появление в России первых «диссидентов» и мода на андеграунд побудили чету Бар-Гера вступить с ними в переписку и попросить их переправлять через «железный занавес» в Германию кто, как и что сможет из образцов своего творчества. Поскольку в сумки в то время беспрепятственно колесящих туда-сюда иностранных студентов помещались в основном свернутые в трубочки набросочки-рисуночки на бумаге, то их в доме господ Бар-Гера вскоре скопилось изрядное количество. Шли годы. Становившиеся маститыми и обретающие мировую славу живописцы постепенно перестали «за так» отдавать свои шедевры предприимчивым галеристам. Тогда супруги Бар-Гера решили подвести итог своей собирательской деятельности, объявив, что современный русский авангард их больше не интересует, а то, что у них залежалось в запасниках, можно где-нибудь напоследок и показать, Только, чур, не за счет владельцев. Как ни странно, первым на предложение откликнулось руководство Третьяковки, широко известное тем, что бесплатно никому ничего не предоставляет (например, за то, чтобы выставить куда более основательные и представительные собрания Леонида Талочкина и Евгения Нутовича хозяева вроде бы государственного музея запросили с них аж пятнадцать тысяч долларов, прекрасно зная, что у нищих энтузиастов-собирателей, которым, кстати, есть, что показать, таких сумм просто нет, а с тех, у кого имеется, что заплатить, но как раз показать особенно нечего, не содрали ни копейки. Впрочем, бывшие совковые холуи-номенклатурщики издавна славились презрением ко всему отечественному и патологической склонностью к вылизыванию иностранных задниц. Короче, как ни крути, а «тайные пружины» всегда служили основным двигателем прогресса, тем более в сегодняшней России. До них докапываться – только мозги засирать, бессмысленное занятие. Как бы там ни было, все герои и персонажи, как в настоящем сентиментальном романе, в конце концов встретились и… узким масонским кругом отправились отметить «это дело» в один из недешевых ресторанов, расположенных в фешенебельной гостинице «Славянская». Кто «спонсировал» банкет – не нашего ума дело (в любом случае не «авторы представленных в экспозиции работ», успевшие заразиться во время заграничных поездок бациллами прижимистости и хитрожопости).
•
Растущая популярность обозревателя «М-Э» не осталась не замеченной и хозяйкой галереи «Айдан», по бомондистости гостей и их строго ограниченному кругу больше напоминающей великосветский салон, чем культурно-просветительное учреждение, г—жой Салаховой, впервые удостоившей его приглашением на очередную «встречу друзей», куда переместились все участники вернисажа в Третьяковке (благо одно событие от другого отделяли всего сутки). Поводом для тусовки послужила ретроспективная выставка известного художника-шестидесятника Валерия Юрлова, оказавшего влияние на формирование и становление так называемой «сретенской группы» московских концептуалистов во главе со всемирно знаменитым Ильей Кабаковым, который активно использовал открытия и наработки своего старшего коллеги, сделанные им еще в пятидесятые годы (наставниками же самого г-на Юрлова были непосредственные преемники наследия первых русских авангардистов, его последние «классики» – Виктор Шкловский, Петр Митурич, Владимир Фаворский). Тему экспозиции г-жа Салахова назвала «Эволюция линии», имея в виду эстетский лаконизм вывешенных работ и минимум использованных автором изобразительных средств. После вчерашнего банкета до отказа заполнившие бывшую мастерскую Таира Салахова столичные эстеты с примкнувшими к ним «соотечественниками» опохмелялись кто чем хотел и продолжали так оживленно и темпераментно общаться между собой, что у обозревателя «М-Э» создалось впечатление, что им и в самом деле есть что сказать друг другу.
•
По приглашению руководства Клуба меценатов и благотворителей России в лице его бессменного президента Евгения Ряпова обозреватель «М-Э» принял участие в экскурсии группы столичных предпринимателей и членов их семей в Московскую духовную академию, расположенную на территории Троице-Сергиевой лавры, куда бизнесменов доставила кавалькада из восьми быстроходных иномарок. Путь в восемьдесят километров занял не более сорока (!) минут (вот что значит «фирменные» автомобили). По лабиринтам церковного учебного заведения состоятельных гостей водили его учащиеся, познакомившие коммерсантов со своим более чем аскетичным бытом и внутренним распорядком. На предложение отведать монастырской трапезы представители деловых кругов, однако, ответили вежливым отказом, рассчитывая «расслабиться» в более привычной для себя обстановке. После недолгой дискуссии решили заехать на местный базар, где закупили все необходимое для пикника, который, по предложению обозревателя «М-Э», устроили на полянке с огромным деревянными столом возле Гефсиманского скита с недавно восстановленными могилами русских философов Василия Розанова и Константина Леонтьева. За теплым приятельским застольем звучали тосты за скорейшее возрождение России и увеличение вложенных в ее народное хозяйство частных капиталов. Исполненные под впечатлением от увиденного чувства патриотизма, новые русские предприниматели пообещали с удвоенной энергией отдать всех себя делу меценатства и благотворительности.
•
Оказывается, обвальная коррупция охватила не только армейские и чиновничьи круги. В злостном использовании служебного положения уличен владелец галереи «Дар» Сергей Тарабаров. Решив как можно экстравагантнее отметить свой день рождения, он приказал художникам-самоучкам, которых постоянно выставляет, нарисовать кто как умеет льва и принести ему в аккурат 24 июля, когда он ждал гостей с подарками. Недаром говорят, что аппетит приходит во время еды, а к хорошему быстро привыкаешь. Роль вымогателя-эксплуататора настолько пришлась по душе г-ну Тарабарову, что он без зазрения совести тут же «запрягал» каждого приходившего к нему с картиной «наивного» живописца резать продукты для салатов и бутербродов. Самая черная и трудоемкая работа – откупоривание бутылок – досталась представителю городских низов и выходцу из крестьян Валентину Волкову, всего несколько месяцев назад освоившему науку отличать красный цвет от зеленого. Пока его вассалы трудились в поте лица, именинник раздавал направо и налево праздные интервью понаехавшим в предвкушении угощения телевизионщикам, изредка прерываясь, чтобы дать очередное цэу на предмет развески холстов. Отвечая на вопросы журналистов, г-н Тарабаров не уставал называть себя «мудрым, сильным, скромным, справедливым» и вместе с тем «простым, доступным и самодостаточным», особо подчеркивая, что он, став «царем» (!), «достиг в жизни всего, чего хотел, а потому начисто лишен амбиций и претензий к окружающим». Экспозицию, составленную целиком из изображений как бы самого себя, г-н Тарабаров назвал «Львиная доля» – не иначе как намекая на крест, который он якобы несет, неустанно заботясь о благополучии и процветании тех, кому он не позволяет умереть с голоду, продавая их незатейливые пейзажики-натюрмортики. Супруга г-на Тарабарова между тем только и делала, что ворковала с представителями Министерства культуры и строила глазки известным членам думской фракции «Яблоко». При виде вопиющей несправедливости, когда одни едва успевали подавать мгновенно поедаемое, а другие мгновенно поедать подаваемое, уязвленная душа обозревателя «М-Э» приказала ему покинуть обитель обжорства, словоблудия и суеты сует, чтобы поскорее сесть за письменный стол и без гнева и пристрастия рассказать читателям об увиденном и пережитом за неделю.